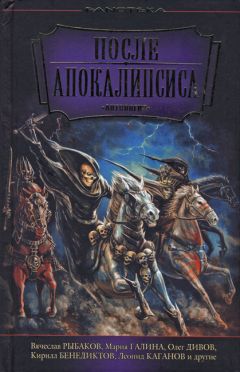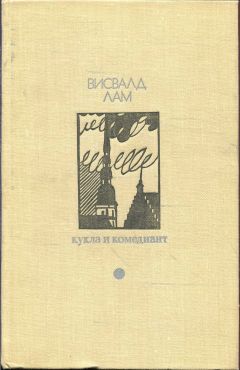Виктор Колупаев - Сократ сибирских Афин
— Выходит, мой благородный друг, ты призываешь меня льстить и угодничать?
— Да, если тебе угодно.
— Не повторяй в который раз того же самого — что меня погубит любой, кому вздумается! Потому что я тебе снова отвечу: “Негодяй погубит достойного человека”. И не говори, что у меня отнимут имущество, чтобы мне не возразить тебе снова: “Пусть отнимут, а распорядиться отобранным не смогут, потому что как несправедливо отнимут, так и распорядятся несправедливо, а если несправедливо — значит, постыдно, а если постыдно — значит, плохо”.
— Не то что плохо распорядиться Сократовым имуществом, а и украсто-то его никто не сможет, — заявила Ксантиппа. — Чего тут воровать-то? Нет, видать и вправду Сократ сошел с ума. А ведь раньше никогда не сходил…
— Как ты твердо, по-видимому, убежден, Сократ, — сказал хронофил, — что ни одно из этих зол тебя не коснется, — словно бы ты живешь вдалеке отсюда и не можешь очутиться перед судом по доносу какого-нибудь отъявленного негодяя!
— Я был бы и в самом деле безумцем, славный Агатий, если бы сомневался, что в нашем городе каждого может постигнуть какая угодно участь. Но одно я знаю твердо: если я когда-нибудь предстану перед судом и мне будет грозить одна из опасностей, о которых ты говоришь, обвинителем моим и правда будет негодяй — ведь ни один порядочный человек не привлечет невиновного к суду, — и я не удивлюсь, услышав смертный приговор. Объяснить тебе почему?
— Конечно!
— Мне думается, что я в числе немногих афинян (чтобы не сказать — единственный) подлинно занимаюсь искусством государственного управления и единственный среди нынешних граждан применяю это искусство к жизни. И раз я никогда не веду разговоров ради того, чтобы угодить собеседнику, но всегда, о чем бы ни говорил, — ради высшего блага, а не ради особого удовольствия, — раз я не хочу следовать твоему совету и прибегать к хитрым уловкам, мне невозможно будет защищаться в суде. Подумай сам, как защищаться такому человеку перед таким судом, если обвинитель заявит: “Дети, этот человек и вам самим причинил много зла, и портит младенцев, пуская в ход нож и раскаленное железо, изнуряет вас, душит и одурманивает, назначая горькие-прегорькие лекарства, морит голодом и томит жаждой — не то что я, который закармливает вас всевозможными лакомствами!” Что, по-твоему, мог бы ответить врач, застигнутый такою бедой? Ведь если бы он ответил правду: “Все это делалось ради вашего здоровья, дети”, — представляешь себе, какой крик подняли бы эти судьи? Оглушительный!
— Разумеется.
— Он уже и врачем себя воображает! — ужаснулся Межеумович. — Нет ли какого лекарства в твоем доме, Ксантиппа?
— Какое может быть лекраство, если бутыли из-под самогона пустые? — удивилась жена Сократа.
— В таком же самом положении, нисколько не сомневаюсь, очутился бы и я, если бы попал под суд, — продолжал Сократ. — Я не смогу назвать ни одного удовольствия, которое бы я им доставил, а ведь именно в этом, на их взгляд, заключаются услуги и благодеяния, тогда как я не хвалю тех, кто их оказывает, и не завидую тем, кто их применяет. И если кто скажет про меня, что я порчу и одурманиваю молодых или оскорбляю злословием старых — в частных ли беседах или в собраниях, — я не смогу ответить ни по правде — что, дескать, все слова мои и поступки согласны со справедливостью и вашим желанием, граждане судьи, — ни каким-либо иным образом. Да уж, видимо, какая участь ни выпала, а придется терпеть.
— Да он вовсе не с ума сошел, Ксантиппа, а просто потерял всякий разум! — воскликнул Межеумович.
— Ну, а раз потерял, то теперь ему и лекарства никакие не нужны, — успокоилась Ксантиппа.
— И по-твоему, это прекрасно, Сократ, когда человек так беззащитен в своем городе и не в силах себе помочь? — спросил хронофил.
— Да, славный Агатий, если он располагает тем единственным средством защиты, которое ты за ним признал, и даже не один раз, — если он защитил себя тем, что никогда и ни в чем не был несправедлив — ни перед людьми, ни перед богами, ни на словах, ни на деле; и мы с тобою не раз согласились, что эта помощь — самая лучшая, какую человек способен себе оказать. Вот если бы кто-нибудь меня уличил, что я не могу доставить себе и другим такой помощи, мне было бы стыдно, где бы меня ни уличили — в большом ли собрании или в малом или даже с глазу на глаз, — и если бы умирать приходилось из-за этого бессилия, я бы негодовал. Но если бы причиною моей гибели оказалась неискушенность в льстивом красноречии, можешь быть уверен, я бы встретил смерть легко и спокойно. Ведь сама по себе смерть никого не страшит, разве что человека совсем безрассудного и трусливого, страшит совершённая несправедливость, потому что величайшее из всех зол — это когда душа приходит в Аид обремененной множеством несправедливых поступков.
— Пропал, Сократ! Полностью пропал! — чуть ли не заплакал Межеумович. — А ведь сколько раз я ему говорил: не пей ее, паскуду!
— А ведь и впрямь что-то случилось с Сократом, — сказала Ксантиппа. — Стареет, наверное.
— Значит, Сократ, мы с тобой не договорились, — как бы подытожил разговор славный Агатий.
— Выходит, вроде того, — согласился Сократ. — Но ты-то, славный Агатий, в проигрыше ведь все равно не останешься?
— Ни боже мой! — ответил хронофил. — С чего это я буду оставаться в проигрыше?!
— А, насчет души, Сократ, без обману? — спросил диалектический Межеумович.
— Гарантия сто процентов, — ответил Сократ. — Для тех, конечно, у кого эта душа есть.
— Да есть у меня душа, есть! — озлился вдруг материалист. — Все у меня есть, не думай!
— Чё ему думать-то, — вступила в разговор Ксантиппа. — Нечего ему думать. В баню бы ему сходить, да куда на ночь глядя?
— Может, все и обойдется, — предположила Каллипига. — Ведь обобщающей-то троицы пока нет.
— Нет, да будет, — пообещал славный Агатий. — Ну, я пошел.
— И я, и я, — заволновался диалектический материалист.
Глава тридцать девятая
— Что ты теперь намерен предпринять? — услышал я голос Каллипиги. — Космос еще не раздумал создать?
— Сначала нарисую, — ответил я.
Я уже знал, какая картина появится на этом холсте. Знал, до малейших подробностей, но не смог бы пока никому рассказать словами, что я хотел нарисовать. Не мог, потому что это было неизъяснимо словами. Не было таких человеческих слов, чтобы ими хоть в самом общем виде обсказать сюжет картины. Такое со мной бывало и раньше и я осознавал, какие муки ждали меня впереди. Пока я не возьму в руки кисть, какое-то дьявольское напряжение будет раздирать мою душу. А писать я пока не начну. Рано, рано еще… Все произойдет как бы само собой, если не брать во внимание это чудовищное напряжение. Неизъяснимая легкость овладеет мной, но пока лишь тяжесть, словно грехи всех людей обременяют мою душу. Будет чувство своей сопричастности свету, а пока лишь тьма недовольства собой и миром. Хотя, что мне мир… Все сойдется и разрешится, как тому и надо, а сейчас разодранность и расхламленность мыслей и чувств.
И Каллипига смотрит на меня понимающе, но не знает, пора ли ей бежать в магазин за бутылкой водки, или лучше прижаться ко мне упругим, горячим, совершенным в своей красоте телом и увлечь меня в так и не застеленную уже какой день постель.
Неродившаяся картина, живущая пока еще только в моей душе, — единственное, что меня сейчас интересует. Она то как чудовищный зверь прокладывает себе путь в зарослях моей души, то ластится и хитрит словно пушистый нежный зверек. Но до самого меня ей дела нет. Я, как личность, как человек разумный, ее не интересую. Это бесит меня. Но картина все же моя, только моя, мое детище, мой смысл жизни. Так почему мы с ней в таком раздрае?!
Тайна зарождения новой картины всегда интересовала меня. И я пытался открыть эту тайну, зная, что, к счастью, никогда не смогу этого сделать.
Моя жизнь, словно по какой-то непреложной необходимости, была переполнена конфликтами. Во мне как бы боролись две силы: я был обычным человеком с вполне законными, как мне казалось, потребностями в счастье, удовлетворенности и жизненной обеспеченности; но, с другой стороны, какая-то беспощадная творческая страсть постоянно втаптывала в грязь все мои личные пожелания. Причем, все это происходило не от каких-то стечений обстоятельств, а по причине моей недостаточной приспособляемости в них. Но, странное дело, приспосабливаться-то я и не хотел.
— Может, к Прову в гости сходим? — спросила Каллипига.