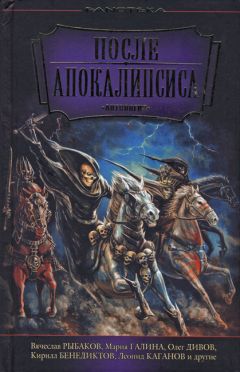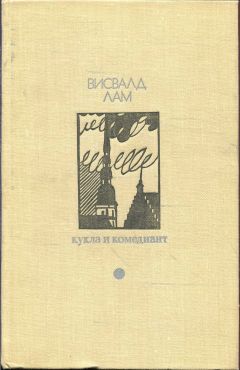Виктор Колупаев - Сократ сибирских Афин
— И таким, явившимся наконец-то владыкою, сам себя назначаешь, конечно, ты, славный Агатий?
— Наконец-то догадался, Сократ! Такова истина, и ты в этом убедишься, если бросишь наконец философию и приступишь к делам поважнее. Что до меня, Сократ, я отношусь к тебе вполне дружески. Наши споры о Времени и Пространстве — это все шутки. Ведь ни ты, ни я, никто на свете не знает, что это такое. И мне хочется сказать тебе: “Сократ, ты невнимателен к тому, что требует внимания. Одаренный таким благородством души, ты ребячеством только прославил себя, ты в судейском совете не можешь разумного слова подать, никогда не промолвишь ты веского слова, никогда не возвысишься дерзким замыслом над другим”. А между тем, друг Сократ, не сердись на меня, я говорю это только потому, что желаю тебе добра, — разве ты сам не видишь, как постыдно положение, в котором, на мой взгляд, находишься и ты, и все остальные безудержные философы? Ведь если бы сегодня тебя схватили — тебя или кого-нибудь из таких же, как ты, — и бросили в тюрьму, обвиняя в преступлении, которого ты никогда не совершал, ты же знаешь — ты оказался бы совершенно беззащитен, голова у тебя пошла бы кругом, и ты бы так и застыл с открытым ртом, не в силах ничего вымолвить, а потом предстал бы перед судом, лицом к лицу с обвинителем, отъявленным мерзавцем и негодяем, и умер бы, если бы тому вздумалось потребовать для тебя смертного приговора.
— Он такой, — вставила слово Ксантиппа.
— Но какая же в этом мудрость, Сократ, — продолжил славный Агатий, — если, приняв в ученье мужа даровитого, его искусство портит, делает неспособным ни помочь самому себе, ни вызволить из самой страшной опасности себя или другого, мешает сопротивляться врагам, которые грабят его до нитки, и обрекают на полное бесчестие в родном городе? Такого человека, прости меня за грубость, можно совершенно безнаказанно отхлестать по щекам. Послушай меня, дорогой мой Сократ, — прекрати свои изобличения, обратись к благозвучию дел, обратись к тому, что принесет тебе славу здравомыслия, оставь другим уловки эти тонкие — не знаю, как их назвать, вздором или пустословием, — поверь, они твой дом опустошат вконец. Не с тех бери пример, кто копается в мелочах, опровергая друг друга, но с тех, кто владеет богатством, славою и многими другими благами.
— Никому не опустошить Сократов дом, — заявила Ксантиппа, но, впрочем, тихонечко, чтобы не мешать умному разговору.
— Я знаю точно, — сказал Сократ, — что, если только ты подтвердишь мнения, которые высказывает моя душа, значит, это уже истинная правда. Я полагаю, чтобы надежно испытать душу в том, правильно ли она живет или нет, надо непременно обладать знанием, доброжелательством и прямотой, и ты обладаешь всеми тремя. Я часто встречаю людей, которые не могут меня испытать по той причине, что не умны — в отличие от тебя, славный Агатий. Другие умны, но не хотят говорить правду, потому что равнодушны ко мне — в отличие от тебя. А глобальный человек и диалектичнейший материалист, оба умны, оба мои друзья, но один стыдлив сверх меры, а другому недостает прямоты в отстаивании своего партийного мнения. Стыдлив и историчнейший материалист, но несколько по-другому, чем глобальный человек. Стыдливость его так велика, что уж раз застыдившись, он не стыдится противоречить сам себе — и это на глазах у множества людей и в деле самом что ни на есть важном.
— Почему это я стыдлив, Сократ! — возмутился Межеумович. — Нисколько я не стыдлив! Да и не был таким никогда.
— Ты же, славный Агатий, — не обращая внимания на диалектика, сказал Сократ, — обладаешь всем, чего недостает остальным. Ты достаточно образован, как, вероятно, подтвердило бы большинство сибирских афинян, и желаешь мне добра. Какие у меня доказательства? А вот какие. Я знаю, славный Агатий, что ты занимался философией с мудрейшим Межеумовичем. И однажды, когда тебе пришла в голову мысль облагодетельствовать человечество дармовым Временем, вы пришли к решению, что особой глубины и обстоятельности в философии искать не надо, ведь сибирские афиняне и так поверят вам на слово. Вот вы и призвали друг друга к осторожности: как бы незаметно не повредить себе чрезмерной мудростью. И когда теперь я слышу, как ты даешь мне тот же совет, что и своему бывшему учителю, а теперь — верному соратнику, для меня это достаточное доказательство твоей искренности и доброго расположения. Что же касается умения говорить прямо, ничего не стыдясь, ты об этом объявил сам, да и речь, которую ты только что произнес, свидетельствует о том же.
— К чему ты все это говоришь, Сократ? — спросил хронофил.
— Ты поставил мне в укор, славный Агатий, предмет моих разысканий, но допытываться, каким должен быть человек, и каким делом должно ему заниматься, и до каких пределов и в старости и в молодые годы, — не самое ли это прекрасное из разысканий? А если в моем образе жизни и не все верно, то, можешь не сомневаться, я заблуждаюсь не умышленно, но лишь по неведению. И раз уж ты взялся меня вразумлять, не отступайся, но как следует объясни мне, что это за занятие, которому я должен себя посвятить, и как мне им овладеть, и если я ныне с тобою соглашусь, а после ты уличишь меня в том, что я поступаю вопреки нашему с тобою уговору, считай меня полным тупицею и впредь уж никогда больше меня не вразумляй, раз я человек ничтожный.
— Уж я постараюсь, — пообещал славный Агатий.
— Но повтори мне, пожалуйста, еще раз. Как ты понимаешь природную справедливость? Это когда сильный грабит имущество слабого, лучший властвует над худшим и могущественный стоит выше немощного? И уж, конечно, когда один выманивает Времена у других, обещая им большие взамен, но в итоге просто отнимает это Время? Верно я запомнил, или же ты толкуешь справедливость как-нибудь по-иному?
— Нет, именно так я и говорил прежде, так говорю и теперь, — подтвердил славный Агатий. — Что касается Времени, то его отдают мне в рост добровольно. Я никого не принуждаю. Ты уверяешь, Сократ, что ищешь истину, так вот тебе истина: роскошь, своеволие, свобода — в них и добродетель, и счастье — разумеется, если обстоятельства благоприятствуют, — а все прочее, все твои красивые слова и противные природе условности, — никчемный вздор.
— Да, славный Агатий, ты нападаешь и отважно, и откровенно. То, что ты теперь высказываешь напрямик, думают и другие, но только держат про себя. И я прошу тебя — ни в коем случае не отступайся, чтобы действительно, по-настоящему, выяснилось, как нужно жить. Скажи мне: ты утверждаешь, что желания нельзя подавлять, если человек хочет быть таким, каким должен быть, что надо давать ему полную волю и всячески, всеми средствами угождать и что это как раз и есть добродетель?
— Да, утверждаю.
— Значит, тех, кто ни в чем не испытывает нужды, неправильно называют счастливыми?
— В таком случае, Сократ, самыми счастливыми были бы камни и мертвецы.
— Да, но и та жизнь, о которой ты говоришь, совсем не хороша. Я бы не изумился, если бы Еврипид оказался прав, говоря:
Кто скажет, кто решит, не смерть ли наша жизнь,
Не жизнь ли — смерть?
Может быть, на самом деле мы мертвы? И правда, как-то я слышал от одного мудрого человека, что теперь мы мертвы, и тело — наша могила, и что та часть души, где заключены желания, легковерна и переменчива. Некий хитроумный слагатель притч эту часть души, в своей доверчивости очень уж неразборчивую, играя созвучиями, назвал пустой бочкой, а людей, не просвещенных разумом, — непосвященными. А про ту часть души, этих непосвященных, в которой живут желания, сказал, что она — дырявая бочка, намекая на ее разнузданность, и стало быть, и ненасытную алчность. В противоположность тебе, славный Агатий, он доказывает, что меж обитателей Аида самые несчастные они, непосвященные, и что они таскают в дырявую бочку воду другим дырявым сосудом — решетом. Под решетом он понимает душу тех, кто не просвещен разумом. А с решетом он сравнил ее потому, что она дырява — не способна ничего удержать по неверности своей и забывчивости.
— Притчами заговорил, Сократ? — усмехнулся славный Агатий.
— Вообще говоря, все это звучит несколько необычно, но дает понять, о чем я толкую, надеясь по мере моих сил переубедить тебя, чтобы жизни ненасытной и невоздержанной ты предпочел скромную, всегда довольствующуюся тем, что есть, и ничего не требующую. Ну как, убедил я тебя хоть немного, склоняешься ли ты к мысли, что скромные счастливее разнузданных? Или же тебя и тысячью таких притч нисколько не поколеблешь?
— Вот это вернее, Сократ.
— Точно, заболел Сократ, — сказала Ксантиппа Каллипиге. — “Скорую”, что ли, вызвать? Да только она тут ночью не пройдет. И ведь не пил ни воды холодной, мороженного не ел, а, видать, простудился. Все старость виновата, так ее и растак!