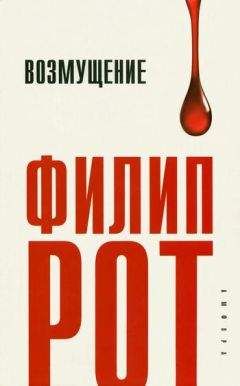Филип Дик - ВАЛИС. Трилогия
Многое из этого мне поведал сам Тим. Он готовился к этому экзамену как к составляющей своего христианского образования. Древний мир узрел возникновение греко–романских религий таинств, предназначенных для преодоления судьбы посредством вхождения верующего в бога, минуя планетарные сферы, в бога, допускающего замораживание «астральных влияний», как это называлось в те дни. Мы же сегодня говорим о «полосе смерти» ДНК и психологическом сценарии — узнанных от и созданных по другим людям, предшественникам, друзьям и родителям. Это то же самое. Это детерминизм, убивающий вас, что бы вы ни делали. Должна прийти и изменить ситуацию какая–то сила, внешняя по отношению к вам. Вы не можете сделать этого сами, ибо запрограммированность заставляет вас совершить действие, которое вас и уничтожит. Действие, совершаемое с мыслью, что оно спасет вас, тогда как на самом деле оно отдает вас тому самому року, которого вы так хотите избежать.
Тим все это знал. Это ему не помогло. Но он делал все, что мог. Он пытался.
Практичные люди не делают того, что сделали Джефф и Кирстен. Практичные люди борются с этим дрейфом, потому что это романтический дрейф, слабость. Это приобретенная инертность, приобретенное пораженчество. Тим мог не придавать значения смерти своего сына как исключительному случаю, полагая, что он не будет заразительным, но когда так же поступила и Кирстен, ему пришлось изменить свою точку зрения, вернуться к смерти Джеффа и пересмотреть ее. Тогда он разглядел в ней истоки последовавшего несчастья, и он увидел, что это же несчастье нависает и над ним самим. Это заставило его немедленно избавиться от всех бессмысленных представлений, которых он нахватался начиная со смерти Джеффа, всех этих «жутких и убогих» идей, связанных с оккультизмом, заимствуя уместное описание Менотти. Тим внезапно осознал, что он сел за стол в гостиной мадам Флоры, чтобы вступить в контакт с духами, а на самом деле, чтобы отдаться глупости. Теперь он делал то, что характеризовало его всю жизнь: отказался от одного пути и искал другой. Он избавился от этого зловредного груза и стремился к чему–то более устойчивому, более надежному и здоровому, чтобы заменить его. Для спасения судна порой необходимо сбросить груз за борт. Когда что–то отбрасывается, это проделывается расчетливо: выбросить, чтобы утопить, зато сохранить само судно. И такой момент наступает лишь тогда, когда судно терпит бедствие, как это и происходило с Тимом. Доктор Гаррет предрекла гибель и ему, и Кирстен — сначала Кирстен. Первое пророчество оказалось верным. Следовательно, он мог быть следующим. Это действия в аварийной обстановке. К ним прибегают готовые пойти на риск и находчивые. Тим принадлежал и к тем, и к другим. Да еще факт необходимости. Тим осознавал разницу между кораблем (который восстанавливаем) и грузом (который таковым не является). Он рассматривал себя как корабль. Он рассматривал свою веру в духов, в возвращение своего сына с того света как груз. Такое четкое различие было его преимуществом — в той мере, в какой он мог его провести. Отказ от этой веры ни подрывал его, ни порочил. И существовал незначительный шанс, что это его спасет.
Я радовалась вновь обретенной прозорливости Тима. Но все равно была настроена глубоко пессимистично. Я относилась к его прояснению как к проявлению его фундаментального решения спастись. Это, несомненно, хорошо. Нельзя порицать стремление выжить. Единственный вопрос, пугавший меня, заключался в следующем: а не пришло ли это прояснение слишком поздно? Время покажет.
Когда судно спасено — если оно действительно спасено, — необходимое выбрасывание груза наделяет владельца или владельцев товара правом на основную компенсацию. Это международное морское правило. Подобное соображение основополагающе для всех людей, вне зависимости от места происхождения. Сознательно или бессознательно, Тим это понимал. Делая то, что он делал, он принимал участие в чем–то почтенном и повсеместно принятом. Я его понимала. Думаю, его понял бы любой. Было не время сокрушаться над проигранными баталиями по вопросу, вернулся или же нет его сын с того света. Для Тима настало время бороться за свою жизнь. Он так и делал, и делал все, что мог. Я наблюдала и, где было возможно, помогала. В конечном счете все рухнуло, но не из–за недостатка усилий, не из–за неудачной попытки или утраты мужества.
Это не беспринципность. Это пробуждение перед последней обороной. Рассматривать Тима в его последние дни как ничтожного человечишку, занятого животным спасением любой ценой, отрицающего любые моральные устои — значит не понимать его совершенно. Когда под угрозой ваша жизнь, вы действуете определенным образом, если вам достает сообразительности, и Тим так и поступал: он избавился от всего, от чего можно было избавиться, от чего нужно было избавиться — он обнажил клыки и готов был кусаться, и именно так человек и поступает, в смысле человека–твари, твердо решившегося спастись, — и к черту этот груз. После смерти Кирстен Тиму грозила неминуемая смерть, и он это понимал, а чтобы вам понять его в этот заключительный период, вы должны принять во внимание его осознание, и также вы должны понять, что его восприятие, его осознание, было правильным. Он находился, выражаясь языком психиатров, в контакте с реалистичной ситуацией (как будто есть какая–то разница между «ситуацией» и «реалистичной ситуацией»). Он жаждал жить. Как и я. Как и вы, вероятно. Тогда вы должны понять, что творилось в душе у епископа Арчера в течение периода после смерти Кирстен и до его собственной: первая — нечто данное, вторая — угрожающая, но спорная вероятность, не реальность. Во всяком случае, не тогда, хотя с нашей нынешней позиции, при взгляде в прошлое, мы и можем представить ее как неизбежную. Но это известная черта ретроспективного взгляда — для него все неизбежно, поскольку все уже произошло.
Даже если Тим и расценивал свою смерть как неминуемую, определенную пророчеством, определенную сивиллой — или же Аполлоном, говорившим посредством сивиллы как глашатая, — он был решителен в противостоянии этой участи и организовывал сопротивление, на какое только был способен. Думаю, это действительно замечательно и заслуживает восхваления. То, что он отверг всего лишь кучу хлама, в который некогда верил и о котором проповедовал, не имеет значения. Он что, должен был вцепиться в это дерьмо и умереть в согнувшейся, расслабленной позе, с закрытыми глазами и спрятанными клыками? Я твердо убеждена в этом. Я видела это. Я понимала это. Я видела, что груз сброшен. Я видела, как он отправился за борт в тот миг, когда осуществилось первое пророчество доктора Гаррет. И я сказала: слава тебе, Господи. И все–таки я считаю, что он должен был отказаться от издания этой чертовой книжонки, этой «Здесь, деспот Смерть», как я ее озаглавила. Но он получил за нее тридцать тысяч долларов, и, возможно, его решение все–таки пустить ее в печать было просто еще одним свидетельством его практичности. Не знаю. Некоторые стороны Тима Арчера остаются для меня загадкой даже на сегодняшний день.
Просто это было не в стиле Тима — устранить ошибку, прежде чем она произошла. Он позволял ей появиться, а затем — как он сам выражался — подавал исправление в форме поправки. За исключением тех случаев, когда дело касалось его физического спасения — тут он просчитывал действия заблаговременно. Тут он готовился. Человек, бежавший всю свою жизнь, опережая самого себя, обгоняя самого себя, словно подгоняемый амфетаминами, которые глотал ежедневно, вот этот человек теперь неожиданно прекратил бег, оглянулся, всмотрелся в судьбу и сказал — словами, приписываемыми Лютеру, хотя это не так, — «Здесь я стою, и я не могу иначе». У немецкого онтологиста Мартина Хайдеггера есть для этого выражение: превращение неподлинного Бытия в истинное Бытие, или «Sein». Я изучала это в Калифорнийском университете. И даже не думала, что когда–либо увижу, как это происходит. Но это произошло, и я увидела. И я нашла это прекрасным, но очень печальным, ибо оно не состоялось.
Я мысленно представила себе дух своего мертвого мужа, проникающий в мой разум и при этом весьма забавляющийся. Джефф указал бы мне, что я рассматривала епископа как грузовое судно, фрахтовщика, да еще обнажающего клыки — перемешанная метафора, от которой он пребывал бы в состоянии восторга на протяжении нескольких дней. Я бы конца не слышала его восклицаниям. Из–за самоубийства Кирстен я начала трогаться умом. На работе, сверяя содержимое поставки с перечнем фактуры, я едва обращала внимание на то, что делаю. Я ушла в себя. Мои коллеги и шеф говорили мне об этом. И я мало ела. Я проводила свой обеденный перерыв за чтением Дэлмора Шварца, умершего, как мне сказали, попав головой в мешок с отбросами, который он выносил по лестнице, когда с ним случился сердечный приступ. Великолепный способ для поэта умереть!