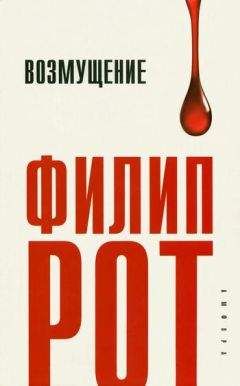Филип Дик - ВАЛИС. Трилогия
Проблема самоанализа заключается в том, что у него нет конца. Как и у сна Основы[109] во «Сне в летнюю ночь», у него нет основы. За годы обучения на кафедре английского языка в Калифорнийском университете я научилась составлять метафоры, играть с ними, мешать их, подавать их. Я метафорическая наркоманка, переобразованная и остроумная. Я слишком много думаю, слишком много читаю, беспокоюсь о тех, кого слишком сильно люблю. Те, кого я любила, начали умирать. Осталось уж немного, большинство ушло.
В мир света навсегда они ушли,
И мне здесь тяжко одному,
Лишь память их, как яркий свет вдали,
Мою пронзает тьму.
Как написал Генри Воэн в 1655 году. Стихотворение заканчивается:
Иль сделай, чтоб, когда я в высь взгляну,
Мне взгляд не помрачала мгла,
Иль уведи меня в ту вышину,
Где видно без стекла!..[110]
Под «стеклом» Воэн подразумевает телескоп. Я проверяла. Второстепенные метафизические поэты семнадцатого века составляли мою специализацию, когда я училась в школе. Теперь, после смерти Кирстен, я вновь вернулась к ним, потому что мои мысли, как и их, обратились к потустороннему миру. Туда ушел мой муж. Туда ушла моя лучшая подруга. Я ожидала, что и Тим уйдет туда, — и так он и сделал.
К несчастью, я стала реже видеться с Тимом. Для меня это было самым болезненным ударом. Я действительно любила его, но теперь связи были оборваны. Они были оборваны с его стороны. Он оставил должность епископа Калифорнийской епархии и переехал в Санта–Барбару и тамошний исследовательский центр. Его книга, которая, по моему непреложному мнению, не должна была издаваться, вышла, выставив его дураком. К этому добавился скандал с Кирстен: медиа, несмотря на манипуляции Тима со свидетельствами, пронюхали об их тайных отношениях.[111] Карьера Тима в епископальной церкви внезапно завершилась. Он собрался и уехал из Сан–Франциско, объявившись, как он когда–то говорил, в частном секторе. Там он мог расслабиться и стать счастливым, там он мог жить без репрессивного осуждения христианского канонического права и морали.
Я скучала по нему.
В прекращение его отношений с епископальной церковью вмешался и третий элемент — и, конечно же, он заключался в чертовых Летописях саддукеев, которые Тим просто не мог оставить. Более не занятый Кирстен — она была мертва — и более не занятый оккультным — поскольку он осознал, к чему оно вело, — теперь он сконцентрировал всю свою доверчивость на писаниях этой древнееврейской секты, утверждая в речах, интервью, статьях, что в них действительно находятся подлинные истоки учения Иисуса. Тим не мог оставить неприятности. Ему и неприятностям было предопределено сосуществовать вместе.
Я не отставала от событий, касавшихся Тима, читая журналы и газеты. Моя связь с ним осуществлялась через посредников, у меня больше не было прямого, личного знакомства с ним. Для меня это составляло трагедию, возможно, даже большую, нежели утрата Джеффа и Кирстен, хотя я никому об этом и не говорила, даже своим психиатрам. Я потеряла и след Билла Лундборга. Он выпал из моей жизни и угодил в психиатрическую лечебницу, так–то вот. Я пыталась разыскать его, но потерпела неудачу и сдалась. Я выбивала либо ноль, либо тысячу, это уж как вы захотите посчитать.
Как бы вы ни захотели посчитать, результат сводится к следующему: я потеряла всех, кого знала, так что подошло время заводить новых друзей. Я пришла к выводу, что розничная продажа пластинок для меня больше, чем просто работа. Для меня это было призванием. В течение года я поднялась до должности заведующего магазина «Мьюзик». У меня были безграничные возможности закупок, владельцы меня совершенно не ограничивали. Я опиралась исключительно на свое мнение, что заказывать, а что нет, и все комиссионеры — представители различных лейблов — знали об этом. Это приносило мне множество бесплатных обедов и кое–какие интересные свидания. Я начала выбираться из своей скорлупы, больше встречаясь с людьми. Я обзавелась парнем, если вы способны стерпеть столь старомодный термин (который никогда не употреблялся в Беркли). Полагаю, «любовник» — то слово, что мне требуется. Я позволила Хэмптону переехать в мой дом — дом, который купили Джефф и я, — и начала, как надеялась, свежую, новую жизнь, в смысле моей заинтересованности.
Книга Тима «Здесь, деспот Смерть» продавалась не так успешно, как ожидалось. Я видела ее уцененные экземпляры в различных магазинах около Сэтер–Гейт. Она стоила слишком дорого и была слишком затянута. Ему стоило внести в нее сокращения, если уж он ее написал — большая ее часть, когда я наконец нашла время почитать ее, произвела на меня впечатление работы Кирстен. По крайней мере, она оформила окончательный проект, несомненно основанный на скоростной диктовке Тима. Все было так, как она мне и говорила, и, возможно, эта книга была историей болезни. Он так и не продолжил ее другой, книгой — исправлением, как обещал мне.
Одним воскресным утром, когда я сидела с Хэмптоном в гостиной, покуривая косячок из травы нового бессемянного сорта и смотря по телевизору детские мультики, раздался телефонный звонок — неожиданно от Тима.
— Привет Эйнджел, — сказал он тепло и дружески. — Надеюсь, я не помешал тебе.
— Вовсе нет, — выдавила я, гадая, действительно ли слышу голос Тима, или это была галлюцинация из–за травы. — Как поживаешь? Я была…
— Я звоню по той причине, — прервал он меня, словно я ничего не сказала, словно он не слышал меня, — что буду в Беркли на следующей неделе, на конференции в отеле «Клермонт», и я хотел бы встретиться с тобой.
— Здорово, — ответила я, чрезвычайно довольная.
— Может поужинаем вместе? Ты знаешь рестораны в Беркли лучше меня, выбери, какой тебе нравится. — Он тихо рассмеялся. — Будет замечательно вновь увидеть тебя. Как в старые времена.
Запинаясь, я поинтересовалась, как у него дела.
— Все идет прекрасно. Я очень занят. В следующем месяце улетаю в Израиль. И об этом я хочу с тобой поговорить.
— Ах, звучит как шутка.
— Я намерен посетить уэд, где обнаружили Летописи саддукеев. Их перевод закончен. Некоторые из последних фрагментов оказались весьма интересными. Я расскажу тебе все, когда увидимся.
— Хорошо, — ответила я, воодушевленная темой. Как всегда, энтузиазм Тима оказался заразителен. — Я прочла большую статью в «Сайентифик Американ». Некоторые из последних фрагментов…
— Я заеду за тобой в среду вечером. К тебе домой. Оденься соответствующе, пожалуйста.
— Ты помнишь…
— А, конечно. Я помню, где твой дом.
Мне показалось, что он говорил очень быстро. Или это было из–за травы. Нет, травка обычно все замедляет. В панике я выпалила:
— В среду вечером я работаю в магазине.
Словно не слыша меня, Тим продолжал:
— Около восьми часов. Там увидимся. Пока, дорогая. — Щелк. Он повесил трубку.
Черт, сказала я себе. В среду вечером я работаю до девяти. Что ж, мне всего лишь придется попросить одного из продавцов заменить меня. Я не собираюсь пропускать ужин с Тимом, перед тем как он уедет в Израиль. Потом я задумалась, сколько он там пробудет. Возможно, некоторое время. Он уже ездил туда раньше и посадил кедровое дерево. Я хорошо помню это — медиа уделили этому много внимания.
— Кто это был? — спросил Хэмптон, сидевший в джинсах и футболке перед телевизором, — мой высокий, худой, язвительный парень, с черными жесткими волосами и в очках.
— Мой свекор. Бывший свекор.
— Отец Джеффа, — кивнул Хэмптон. На его лице появилась кривая усмешка. — У меня есть идея, что делать с людьми, покончившими с собой. Нужно издать закон, согласно которому, когда обнаруживают какого–нибудь самоубийцу, его надо одеть в клоунский костюм. И сфотографировать его так. И напечатать фотографию в газете. Например, Сильвии Плат. Особенно Сильвии Плат. — Затем он пустился рассказывать, как Плат со своими подружками — как он это воображал — развлекалась игрой, смысл которой заключался в том, кто продержит голову в духовке[112] дольше всех, а тем временем остальные с хихиканьем разбежались.
— Не смешно, — сказала я и пошла на кухню.
Хэмптон крикнул мне вслед:
— Ты ведь не засовываешь голову в духовку, а?
— Отъе***сь.
— С большим красным клоунским носом, — пробубнил Хэмптон, скорее самому себе. Его голос и звук телевизора, детских мультиков, стали резать мне уши. Я закрыла их руками. — Вытащи голову из духовки! — завопил Хэмптон.
Я вернулась в гостиную, выключила телевизор, повернулась к Хэмптону и сказала:
— Этим двум людям было очень больно. Нет ничего смешного, когда кому–то так больно.
Ухмыляясь, он раскачивался вперед–назад, сидя на корточках на полу.
— И с огромными болтающимися руками. Клоунскими руками.