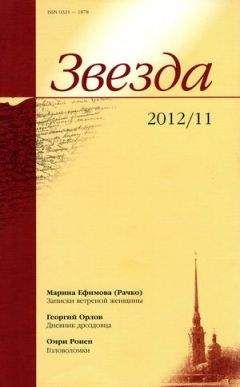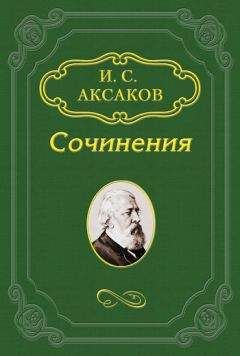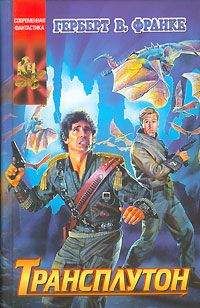Федор Метлицкий - Драма в конце истории
На самом деле мне не до таких умствований, выбраться бы только из бездумного восприятия внешней жизни с расползающейся улыбкой по лицу идиота.
Бух смотрел с благожелательным пониманием, с трудом вытаскивая из памяти где-то слышанное.
— Это… как его… Хайзингер. Он тоже так говорил.
— Хайдеггер?
— Вот-вот!
— Он открыл в сознании замкнутость, — откровенно бросал я им в лицо, зная, что они ни черта не понимают. — И выход в просвет.
— Воспеваете фашиста, — вдруг блеснул знаниями Чеботарев. — Кстати, такой замкнутости в них твой философ не распознал.
Я с удивлением глянул на него. Бух смотрел вопросительно. Он вязнет в глубине своей памяти. С мозгами еще хуже, чем у меня.
Сотрудники явно не могли воспринимать абстракции: опять его понесло. Я опомнился, и перевел на конкретное.
— Мы погружены в коллективное бессознательное, причем архаичное. То, что было еще недавно, возрождается сейчас, особенно в бюрократии. Там свои вдохновения, воспевание подвигов во славу государства, собирания славянских земель. А «единица — ноль».
Я и сам такой, — подумал я. — Что там? Наше детство летящее космолетиком красным складным, в портах кранами, грозно звенящими, и тяжелым покоем страны.
Чеботарев настороженно спросил:
— Коллективное бессознательное, как ты называешь, — это большинство. Ты против большинства? Ведь оно делает историю.
Обнажил мое затаенное сомнение. Мне не хотелось с ним спорить.
— Говорю о твоих головокружительных предчувствиях обладания белыми яхтами, биомобилями и дорогими гаджетами. Как же возбуждает настоящий взрыв роскоши новых технологий, разлетевшихся во вселенной мелкими блестящими веселыми осколками энергий! Такое сознание видит других людей как предметы. Как во все времена, мало людей способно войти в переживание других. Правда, Света?
Она одна могла поддержать. Светлана смущенно поддалась.
— У всех заложено сострадание.
Она не знала плохих людей. Ее вера была броней, за которой она ничего не ведала о злых людях.
— Пока люди будут относиться друг к другу как к предметам, не замечая в них собственные переживания и судьбу, мир будет вертеться в пустом круговороте.
— Пустые слова! — изгалялся Чеботарев. — Ты сам в них не веришь.
Мой голос стал завывать. Я безоглядно бросился вперед, как Дон Кихот на ветряные мельницы.
— Это не пустые слова. Это конкретная история. Люди придумали разные способы достижения «просвета»: особые практики сосредоточения, глядя на горящую свечу, чтобы достигнуть такого отрешения от себя, когда забываешь себя, весь мир с его жадными устремлениями.
— В тупое созерцание своего пупа, — добивал меня Чеботарев.
Слова мои перестали цепляться за крепкие зубцы уверенности.
— Хотя такой способ постижения тоже имеет место быть. Ведь, в человеке сохраняется неизменяемая душевная глубина, как у Светы. Она — вне истории, в «просвете бытия», где и находится то самое близкое, куда я стремлюсь. Может быть, это высшее просветление, куда нужно стремиться.
Светлана самодовольно улыбнулась. Юля смотрела на меня восторженно. Я дурак, но она еще дурее.
Лида оторвалась от срочных бумаг, глянула на меня прекрасными глазами.
— Близость ко всем — это смешно. Можно любить маму, близких. И творчество. Делать свое дело на высшем уровне.
У нее объясняющий тон учительницы. Я отрезвел, стало неловко от моей наивной откровенности. Она считает, что ее, толстую и некрасивую, не могут полюбить, и самое лучшее, что могла сделать — отдаться науке в своей аспирантуре. Разве творчество в науке и технологиях делается профессионалов без души? Разве оно не спасает?
Только Дима уткнулся в экран компьютера, изучая технологию программирования во всемирной паутине. Говорят, он хакер. У него вообще отсутствует желание вылезать из своей раковины.
Бух вступился за меня, прервав неловкое молчание.
— Как это верно! Фалунь Дафа — всеобщий закон буддизма и даосизма: человек должен в течение всей жизни совершенствоваться, что дают Пять Главных Упражнений на пути к Истине, Доброте и Терпению.
Он путано убеждал поверить в мистическое течение жизни. Общие фразы о Добре приводят его в экстаз. Самое любопытное — сам он не умел делать добро. Оно выходило у него как-то боком, и никому не было нужно. Его добро оборачивалось насмешками.
— Попробуй переубедить ее, — кивал Чеботарев на нашу верующую Светлану. — Хотите видеть великую битву Будды с Матреной?
Та улыбалась дружелюбно, не умея сердиться.
— Там нет большой разницы.
Она живет, словно в спасительной люльке, «просветленная» от природы. В ее глазах навсегда утвердился небесный свет, и ему, наверно она посвятит жизнь. Поэтому в ней не может быть мучительных поисков самопознания. Странно, что в наш век сохранилась вера в древнего бородатого Христа. Больше того, православие примирилось и соединилось с западным христианством, что ударило по православным патриотам. Упорно держится в простых людях, несмотря на новый виток техногенной цивилизации, развеявший старую метафизику. Как хорошо блаженно уснуть в вере, навсегда! И не просыпаться.
Если рассуждать логически, существуют бесчисленные уровни сознания, выработанные всей жизнью каждого и законные для него, они должны быть разлиты пленкой в космосе мириадами оттенков.
А каково мое сознание? Вот я, живой, единственный в мире осязающий собственные боли, устремления куда-то, в своей замкнутой оболочке, закрытой от боли других, неужели умру, и весь мой опыт пропадет? Почему-то уверен, что после меня войду в кого-то рожденного после меня, кому перейдет моя душа, с гораздо большим талантом, но ему не дано будет знать, что от меня.
Есть разные уровни озарения. Например, обнимаешь любимую женщину, и не сознание, а все существо уходит в счастье; или одержимость спортивного фаната, улетающего в патриотизме в, так сказать, эмпиреи империи; озарение во сне — бесцветные догадки о мире; озарения робота, точно рассчитывающего вдохновение. И озарения человека, постигшего «гад подземный ход, и дольней лозы прозябанье».
Вот Веня, тот однажды забрался на вершину, с которой стало видно все. Он мыслил поэзией, и уже не мог иначе. Я завидовал ему, потому что всегда продирался сквозь механические нагромождения мыслей, похожие на наш сумеречный северный день.
Я противен сам себе. Меня бесит, что не могу перейти потолок — в ясность ума среди разнородных мыслей от чтения и размышлений. Не открывается, хоть убей!
От этого злюсь на саму природу сознания. Откуда взялась вязкость мышления? И почему оно так неразвито? Чувство, как у человека, уже переставшего тосковать по самым близким и родным, с детства разбросанным по свету.
Мы на грани меж светом и тенью предстали
Расколовшихся, разлученных тех лет.
Как давно, и как долго они не срастались,
Все томили, теперь почти отболев.
Наши корни уже разрознены временем,
И не вспомнить счастье небывалой семьи,
Что могло бы шуметь в ином измерении,
Где разлук не бывает, сердечной зимы.
Можно вмонтировать чипы, помогающие расширить способности мозга. Но они ничего не дают для озарения, при котором только и возникает ясность видения мира.
Наверно, я хотел забить баки Юлечке, восторженно глядевшей на меня. Юным девчонкам нравится романтическая чистота.
Мы с ней на одной волне влечения. Моя душа отдыхает, когда вижу ее. Заглядываюсь на юный профиль — для эмблемы нашего сайта, на задорные косички на шейке, открытый загорелый животик, и ощущаю в себе бескорыстные мысли: вот каких специалистов надо брать в Фонд «Чистота»! Молоденьких, чистых. Из-за кого хочется идти на работу.
Боже мой! Мне не о чем с ней говорить, но было чудесно, что она рядом.
Как же было приятно, когда на наши шутки, под общий смех она призналась: «Что вы! Никогда не выйду замуж. А ну их… Учиться буду».
Я украдкой смотрю на нее, когда она дает шефу текст из местной газеты для внесения в наш сайт, где административный район рекламирует сам себя.
— Я же просил вас отредактировать! — раздражился шеф.
— Тάк напечатано в газете.
— У них что, семь пядей на лбу? — кипятился шеф. — Какая-нибудь бывшая кладовщица написала, а вы верите. Исправьте, чтобы правильно, по-русски.
— Но ведь так напечатано!
Спор становился безнадежным. Уровень грамотности кладовщицы был непререкаем. Юля свято верит печатному слову. Может быть, у нее действительно здравое видение — все принимать как есть?
— Мы не понимаем друг друга, — устало говорит шеф, и обращается ко мне. — Отредактируй.
Мне жаль надувшую губки Юлю.
Меня восхищало, что она еще не знает, как это иметь свое мнение, вступать в равный разговор. Не могла даже говорить тосты — серо как-то: «За вас», «Пусть все будет хорошо». Обнаружилось в ней пристрастие к уже освоенному, нежелание нового. Хотя с компьютером управляется легко, мигом хватает из интернета все нужное, и уже без смятения и испуга разбирается в наших сложностях. Что-то в ней наросло, стала уверенней.