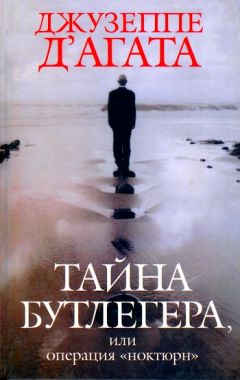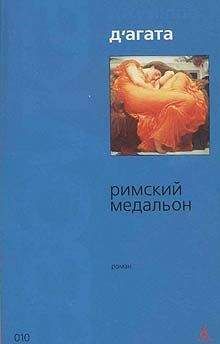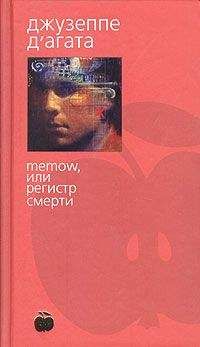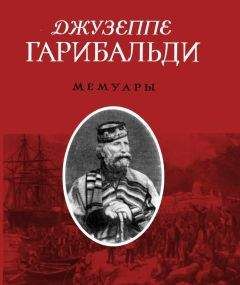Джузеппе Д’Агата - Америка о’кей
Наверно, ох.
Но мне еще рано думать о смерти.
Хоть я и пользуюсь, как папский сын, особыми привилегиями, все равно каждый раз, стоит мне притронуться к запретной вещи, я словно бы жду электрического разряда, который опрокинет меня и — ууу — утопит в материнском лоне.
В лоне мусора. Ах!
Очевидно, я настолько мелкий грешник, что недостоин наказания. Или — иии — настолько великий, что имею возможность пользоваться безнаказанностью. А?
Ага.
Слышится громовой голос папы:
— Верно, верно.
7
Появляется внушительная фигура моего отца. Ах!
Царственно белая мантия (несмотря на многократную обработку в стиральной машине, несколько пятен все же осталось).
Белый ореол волос, венчающий крупную голову.
Кардиналы, стражники, арестованный подобострастно приветствуют его. Хором.
— Многая лета папе Эдуарду, богу на земле!
Мой отец человек исключительно сильный (красивый), могучий.
Однако ему нравится изображать из себя развалину, ууу, едва таскающую ноги.
Поэтому он опирается — вместо трости — на гладкую надушенную руку Иоанна, аббата Бостонского.
О, ну конечно, это он! Вы не ошиблись.
Молодой человек, что недавно сидел в ванне.
Интересно, откуда берутся такие красавчики? На нем неизменно чистая туника (похоже, он меняет ее каждый день).
А?
Ходят слухи, что добрее его нет человека аж во всей великой Стране.
Я помню, как он вечно путался у меня под ногами — здесь, во дворце, когда мы еще были детьми. Как я, ууу, убивался тогда из-за своего уродства («Маменькин ублюдок на паучьих ножках»); я ненавидел Иоанна и чего бы только не сделал (не отдал) ради того, чтобы быть как он, походить на него.
Потом это прошло (о-о-о!).
В Иоанне, я чувствую, есть что-то такое, что непосредственно касается меня.
Думаю, что вместе мы представляем собой идеальную окружность: я — черный полукруг, он — белый.
Что мне досталась худшая, а ему лучшая часть одной и той же субстанции.
Что мы — ах — антиподы, и это нас роднит, то-то и оно.
У-у, умные люди, вы меня понимаете.
Папа усаживается на трон-престол (и-и-и, изъеденный жучком, топорный, стульчак, да и только, зато — ох ты — точь-в-точь по моим тощим ягодицам, словно на заказ).
Иоанн занимает свое обычное место, рядом с папой. Он стоит, но впечатление такое, будто сидит у папы на коленях.
Так или иначе, я включил Иоанна в длинный список людей, заслуживающих ненависти.
Эх, хорошо бы, конечно, кто-нибудь объяснил мне, как это — ненавидеть всей душой! Я подозреваю, что моя ненависть, хоть и похожа на настоящую, чересчур поверхностна, неглубока.
Ах, ну что это за ненависть, а?
Боюсь (опасаюсь), что в самом разгаре операции я вдруг забуду, уф, за что собирался убрать того или иного врага, либо — охохонюшкихохо — еще хуже: не смогу сказать, почему считаю его врагом.
Ну да ладно, там видно будет.
Сейчас же я хочу обратить ваше внимание на взаимосвязь (контакт) между моим отцом и Иоанном. Э, это небезынтересно, о’кей.
Эдуард, насупив брови, изучает (оценивает) ситуацию. Затем лепечет на ухо красавчику Иоанну:
— Ммм.
— Отлично, — заключает Иоанн, внимательно (сосредоточенно) выслушав божественный лепет. И тут же переводит: — Вопрос к Марку, кардиналу Бейкерсфилдскому, государственному секретарю. Как продвигается суд?
Марк (он делает это непрерывно) поправляет пальцем очки.
— Я бы сказал, так сказать, что высочайшее решение о судьбе этого грешника надлежит вынести папе.
— Ммм, — говорит папа на ухо Иоанну.
— Отлично. — На этот раз Иоанн обращается к Луке: — Кардинал Ричмондский, великий инквизитор, что ты можешь сказать, а?
А?
— Он виновен.
Арестованный усиленно кивает.
— Угу, черт меня побери!
— Ммм.
Иоанн смотрит на Матфея.
— Отлично. А что скажет кардинал Далласский, министр — защитник культа?
— Он взял мусор из кучи, — шипит Матфей. — Недопустимое святотатство в отношении нашей церкви. Он заслуживает высшей меры наказания.
— Верно, верно, — изрекает папа.
Арестованный тоже согласен:
— О’кей, ей-ей, так.
Иоанн поднимает холеную руку.
— Могу я сказать?
Матфей недовольно спрашивает, уж не собирается ли он говорить (выступать) от своего имени, а не как толкователь папских «ммм».
Иоанн кивает: дескать, от своего. Во-во, лично от себя.
— Наша бесподобная производственная система страдает, как мы знаем, от недостатка рабочих рук. — (Сразу видно, Иоанн один из тех немногих, кто переступил предел двухсот употребительных слов. Его голос — голос флейты. Или лютни? А как звучит лютня?) — Рабочие представляют собой большую ценность, нам их постоянно недостает.
— Браво, браво.
Воодушевленный Эдуардом, Иоанн переходит к выводу — ух ты! — с которым и я вынужден согласиться:
— А посему, мне кажется, нет смысла терять пару рабочих рук.
— У, о, о’кей, он дело говорит, — признает арестованный.
Иоанн обращает на него ласковый взгляд.
— Правда, ты больше не будешь трогать мусор?
— Ой, не буду, у-у, ни за что не буду, черт меня побери!
Однако Матфей не собирается уступать.
О, он прирожденный боец, как и подобает (пристало) техасцу, у, настоящий бык.
Он резко сдвигает шляпу с затылка, так, что она падает ему на глаза.
— Нет, люди, иии, нет, тут пахнет неуважением закона. Да при таком грехе, при кощунстве, которое позволил себе этот святотатец, не может быть речи ни о покаянии, ни о прощении.
— Правда, правда, — соглашается Эдуард.
Аяй, а я-то хорош, друзья! Когда говорил Иоанн, я был на стороне арестованного, теперь же мне кажется, прав Матфей.
Ух!
Поглаживая бородку, свое слово вставляет (тонко) Лука:
— К тому же он не может работать. Он инвалид.
Матфей знает, что одержал победу.
— О’кей, кроме всего прочего, он инвалид.
И-и-и! Иоанн сдается:
— Отлично. Если так, я умолкаю.
Арестованный ничего не имеет против.
— О, о’кей! О’кей.
— Браво, браво, — резюмирует Эдуард.
Вы уже поняли, что вслух папа произносит главным образом «браво, браво», «верно, верно», «правда, правда», а когда хочет высказаться обстоятельнее, мычит на ухо Иоанну нечленораздельное «ммм».
Потому-то Иоанна называют еще гласом божьим или просто (только) голосом.
Кто знает, умеет ли папа вообще говорить?
Впечатление такое, будто ему неведом даже язык восклицаний. Насколько мне известно, никто никогда не слышал, чтобы он по-настоящему говорил.
По знаку папы стражники надевают на голову арестованному мешок.
Ух ты (ах ты)!
Эдуард и все остальные осеняют себя ритуальным знамением. Касаются лба, груди, живота.
И вот стражники благоговейно бросают арестованного туда, где, как известно, находится колодец центрального мусоропровода.
Арестованный исчезает без единого звука.
Мы очень хорошо умеем уходить.
Не боясь, не впадая в уныние, не цепляясь за жизнь.
А вы? А?
8
Я покидаю свой телевизионный пост и двигаюсь по темным коридорам и шатким лестницам. Бегом, вприпрыжку («Ричард, когда наконец ты споткнешься и сгинешь?»), опрометью.
Я хочу (у!) вблизи видеть, что делается в тронном зале.
Информация — это все.
Мусор — это информация. За что (о!) я его и люблю, люди.
Из предосторожности я не показываюсь.
Застываю черным пятном на черном (темном) фоне колонны.
Потихоньку — у, тсс! — вытягиваю шею. Шею рептилии.
(«Ричард — помесь черепахи с крокодилом».)
И плачу — крокодиловыми слезами. (Ахахахахах! Ах!)
Мой отец и красавчик Иоанн обмениваются нежностями.
Я нежностями с детства (сроду) не избалован, а теперь уж и подавно без них обойдусь.
А где кардиналы?
Вот они, колдуют над компьютером. Компьютер все тот же — допотопный, ржавый. Мертвый хлам.
Но у них — ух ты! — он работает. Вибрирует, пыхтит, весело дребезжит.
Барахло. О, не совсем, конечно. Просто я обогнал эту штуковину. Ууу, ум может совершать все новые и новые операции вплоть до экстралогических, при условии, что запоминающее устройство способно постепенно аннулировать прежние результаты.
Разум располагает ограниченной площадью.
Степень прогресса в области познания определяется количеством мусора (устарелой информации), которое память в состоянии переварить и забыть.
Все упирается в мусор, дорогие мои люди.
Идти по пути прогресса — значит забывать.
Кардиналы внимательно изучают данные, полученные на компьютере.
У-у, у них явно недовольный (расстроенный) вид.
Кардинал Далласский Матфей сплющивает зубами сигару и с размаху — ах ты! — бьет по компьютеру ногой.
— Дрянь, сволочь!