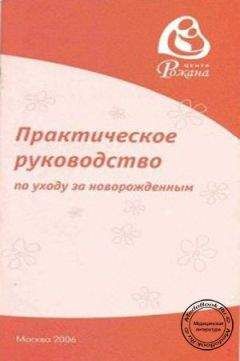Симона Вилар - Ведьма и тьма
– Я должен поговорить с князем!
А самого шатало от усталости, кровь хлестала из раны, идти было мучительно больно, нога тяжелела. Тадыба ворчал, что сперва перевязать его надо, но он все же пошел, хромая и опираясь на плечо воя. Понимал, что долго не продержится, голова шла кругом, в глазах темнело. Но пусть Тадыба передаст князю: нельзя казнить патриарха! Тугодум этот увалень, но Калокир все пытался объяснить, втолковывал, заставлял повторить сказанное. Ответа уже не расслышал, потому как провалился в беспамятство.
Очнулся ближе к вечеру. И первый же вопрос задал о патриархе. Ему сказали, что князь как раз сейчас призвал к себе Пантелеймона. Остальных повязали и держат в подземелье.
– А у нас знатная новость, ромей, – сказал воин с повязкой на голове, что лежал неподалеку от патрикия. – Все русы ликуют. Ибо люди Инкмора убили в схватке самого императора Иоанна Цимисхия! Налетел он на нашего Инкмора, такой расфуфыренный, в блистающих доспехах, а тот и снес ему голову. И сейчас голова эта красуется на копье над воротами града!
Калокир в первый миг онемел. Убили императора! К нему даже вернулись силы. Встал и, опираясь на костыль, отправился взглянуть. О, если Цимисхий мертв, можно считать, что русы победили! Византийское войско вряд ли будет продолжать осаду без своего предводителя. Ведь со смертью базилевса, считай, вся империя обезглавлена!
Он даже смог подняться на стену, однако его ждало разочарование. Голова с курчавыми черными волосами и оплывшими щеками принадлежала не красавчику Цимисхию, а одному из его стратигов – Иоанну Куркуасу. Калокир так и сказал стоявшему на стене Свенельду, что, мол, не базилевсова это голова.
– Да мы уж догадались, – мрачно кивнул воевода. – Видели, как сам император гарцует на коне у горящих орудий. Но хоть камнями забрасывать нас больше не смогут.
Калокир, чувствуя, что сил мало и он не сможет добраться до Святослава, да еще и выдержать спор о патриархе, стал пояснять все Свенельду – тот всегда был разумен и, как знал патрикий, поддерживал болгар-христиан в городе. Но Свенельд поднял руку, прервав его речь.
– Патриарха Панко не тронут. Но другим пощады не будет. Идем, я провожу тебя, херсонесец. Негоже тебе видеть то, что сегодня тут будет твориться.
Позже он сказал Калокиру, что нынче как раз день Перуна Громовержца, русы будут отмечать праздник обильными жертвоприношениями. Сам Свенельд не станет на это смотреть, так как считает себя христианином и ритуальные кровопролития его отвращают. Да и Калокиру не стоит глядеть.
В ту ночь в Доростоле долго горели огни и били тулумбасы. Лежа в лазарете при патриаршем дворце, Калокир слышал монотонное пение русов и громкие выкрики. Сегодня они хоронили тех витязей, тела которых удалось доставить в город. Их сожгут, чтобы души павших вместе со священным дымом унеслись в светлый Ирий. За этим последовали жертвоприношения: зарезали немало пленников, в основном из числа тех, кто пытался сдать Доростол, окропили их кровью павших, а после принесли в жертву Перуну десятка два женщин и детей, ибо и эта кровь может умилостивить Громовержца, дабы поддержал своих вдали от родных капищ. Облаченные в торжественные одеяния волхвы задушили нескольких младенцев, тела которых, как и тела жертвенных петухов, сбросили со стен в воды Дуная.
Ромеи из своего лагеря с ужасом смотрели на происходящее. Калокир же, ослабевший от потери крови и боли, всю ночь метался в горячке, бредил, звал Малфриду… Но к утру уснул крепким сном, и, когда его пришел навестить Святослав, херсонесец даже смог привстать, чтобы приветствовать князя.
Тот велел ему лежать спокойно, сам сел рядом – потемневший, осунувшийся, мрачный, но полный решимости. Сказал:
– Что, будешь упрекать меня за варварские обряды? Угомонись. Я сделал то, что был должен, дабы поднять дух нашего воинства. И умилостивить наших богов, прежде всего Перуна искрящегося! Вот теперь мы выйдем на сечу. Этого все хотят.
Еще бы! Иначе им придется добить и остальных горожан, преисполненных ненависти к язычникам после ночных убийств. Калокир так и сказал князю. Тот резко дернул головой, качнулась серьга в ухе.
– Я убью любого, кто пойдет поперек моей воли! Мирное время прошло. Войну должен почувствовать каждый. – И уже мягче добавил: – Хочешь, подсоблю тебе? У меня ведь немного воды чародейской осталось.
– Прибереги ее для тех, кто верит в Перуна, – огрызнулся Калокир. – Я же ни во что не верю, кроме как себя самого. Если поправлюсь, значит, есть еще во мне сила. А помру… Все там будем. Но одно плохо – в сечу с вами не смогу выступить. Ибо кажется мне, что лучше бы пасть в бою, чем жить дальше.
– Ну, ты, это… слабину не выказывай! Я этого не люблю. Думаешь, мне сладко? Думаешь, я не знаю, что дело мое проиграно? Но попытаться вырваться из кулака ромейского все же надо. Если хоть один отряд выйдет из окружения, мы еще всыплем ромеям!
Сказал он это решительно, но потом вдруг поник, уронил голову.
– Воеводы опять меня в сечу не пускают. Что я, дитя малое, чтобы из-за стен выглядывать, когда мои витязи идут на врага? И угораздило же меня князем родиться! Говорят, если потреплем как следует Цимисхия, то, может, добьемся для себя достойной сдачи. Ох, горько мне слышать это, горько… Но уже решили – Инкмор удачлив, он и поведет войско в битве. Мои волхвы так предсказали, гадая на крови. И молят небеса о победе!
Однако небеса оказались глухи к мольбам славянских жрецов. И удача отвернулась от Инкмора. Ибо следующий бой обернулся для русов поражением.
Калокир наблюдал со стены, как разворачивалась битва. Русы во главе с богатырем Инкмором вышли за стену ближе к вечеру, когда жара не то чтобы спала, но хоть палящее солнце стало клониться к закату. Калокир выбранное ими время не одобрил – солнце било русам прямо в глаза, но они медленно и решительно миновали ров и вскоре оказались на открытом пространстве перед лагерем Цимисхия. Византийцы также выстроились против них фалангой. В страшной духоте рев их труб казался громоподобным. На небе ни облачка – тяжело сражаться в такой духоте! И все же русы не только сдержали напор византийцев, но и потеснили их к валам лагеря. Сверху, со стен, было видно, как одна масса людей давит на другую. У императора было больше воинов, но, учитывая узость поля сражения, он не мог бросить на свирепых язычников всю мощь своей армии. Другое дело, что на место каждого павшего византийца тут же вставал другой. Русы же сражались тем числом, какое имели. И сражались так, что заставляли ромеев пятиться. А потом откуда-то с фланга вынырнула конница. Возглавлял отряд всадник с пышным белым плюмажем на островерхом шлеме. Калокир сразу узнал его: Анемас Крещеный – вспомнил он пароль того дня, когда вызволял ведьму. Да он и был крещеным арабом, сыном последнего критского эмира, которого мальчишкой привезли в Константинополь и окрестили; он рос при дворе, слыл любимцем Иоанна Цимисхия и считался отменным воином. Вот ему император и приказал возглавить облаченных с головы до ног в броню катафрактариев.
Казалось, что тяжелым катафрактариям на мощных лошадях негде будет развернуться в узкой теснине боя, но фланговый удар конников был таков, словно на русов обрушилась штормовая волна, сметающая все на своем пути. Напор бронированной кавалерии смешал строй русов, воины падали друг на друга, как кирпичи рушашейся кладки. Не было никакой возможности сдержать катафрактариев с их длинными копьями, которыми они разили русов, не позволяя достать себя клинками и булавами, а стрелы, которые метали лучники со стен Доростола, отскакивали от их чешуйчатой брони, не нанося ромеям вреда. Русы начали отступать, а затем побежали со всех ног обратно за ров, и лишь горстка самых отчаянных храбрецов прикрывала их бегство.
У Калокира не было сил на это смотреть. Он спустился со стены вниз, туда, где в открытые ворота вбегали перепуганные, вопящие в панике русы. Они отчаянно спешили, так как катафрактарии уже неслись к мостику через ров, а горстка отважных русов не могла их надолго задержать. Опасность, что всадники в броне ворвутся в город, была как никогда близка.
Забыв о боли в ноге, Калокир вместе с другими русами старался поскорее захлопнуть створку ворот, в которую с воплями все еще протискивались люди Святослава. Наконец створки сомкнулись, тяжелые брусья вошли в пазы, а сверху на подступивших к воротам ромеев полетели камни, полилась кипящая смола. Против этого и лучшая в мире броня не поможет. Из-за стены понеслись истошные крики и дикое ржание лошадей. Но часть русов осталась снаружи. Их участь была решена – гибель от копий и мечей, смерть под копытами могучих коней.
Когда стемнело, в Доростоле стало непривычно тихо. Никто не хотел говорить, люди не глядели друг на друга. Столько павших… И среди них отважный Инкмор. Он прикрывал отступление, пока его не сразил копьем Анемас Крещеный. Позже отделенную от тела голову Инкмора водрузили над частоколом ромейского лагеря, как раз напротив ворот, над которыми на копье все еще торчала голова византийского стратига Куркуаса.