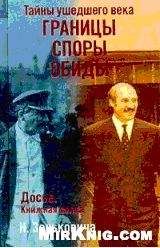Татьяна Мудрая - Костры Сентегира
А они не поняли, не осмелились, не бросили всё на чашу весов, — подумал он. Мысль о том, что и с ними обоими случилось похожее, он гнал, не давши оформиться в слова.
Но вот что можно выбраться, расчистив снег перед воротами, — это он озвучил.
— Конечно, — без особого азарта подтвердила Кардинена. — Ещё навьючиться припасом до упора, чтоб совсем невмоготу стало. Уж будь уверен, я без тебя так бы и сделала — и будь что будет. Вернее, уже сделала однажды, по непроверенным данным.
— Как так?
— Волк ведь не всеведущ. Был у него вполне закономерный провал в памяти, вот и закрыли его потом легендой. Будто бы я бросила всё и вся, даже кольцо неснимаемое Тергате на эфес нацепила, когда ее мне принесли, и тайно ушла за перевалы. В безводную глинистую степь, где меня сначала едва не пришибли, но, одумавшись, подобрали как некий кусачий раритет. Один «песчаный князь», как говорят в Эдине, сделал меня четвёртой по счёту женой и матерью своего сына.
— Это правда?
— Отчасти. Знаешь, есть у легенов такой ритуал «смены лика». Когда старое «я» носить становится невмоготу, ибо замарано, приходится от него до поры до времени отрекаться и жить так, чтобы лишь под самый конец рассчитаться за всё, что было в разных жизнях. А у меня — у меня было столько бытийственных вариантов, что ужаснуться можно. И все активные. Сплошная…как это? Синергетика в действии.
— И дети в них? От Огневолка, да?
— Почему ты так решил? У Терга и Терги хороших детей не случается. У меня случались и дочки, одна — «играющая во всех мирах», как и я сама, и сыновья, но от самых разных мужчин. Я умела их всех ублажить, предстать богиней, которая к ним нисходит. И сама получала от них больше, чем иные женщины… Однако это всё было не то по сравнению с Дженом.
Кардинена плотнее закуталась в свои одежды, придвинулась к собеседнику.
— С тобой хорошо. Ты не будишь пожара в крови, как многие из вашего рода-племени.
— Карди, Волк рассердился за то, что было, или за то, чего не было?
— Хороший вопрос. Скорей за второе. Теперь мне тебя из рук придётся учить фехтованию, а ему, вишь, некогда. А уйти, как он желает… Уйти всегда можно, только слишком это просто. Одна кавалерственная дама прямо бросила мне тогда, после того, как Джена увели вооруженные легены, такое напутственное слово: «Уходи и ты. Ты сделала верно, до того верно и правильно, что нам всем невмоготу тебя видеть». То есть бегства она нисколько не подразумевала — за такое легену смертная казнь, а магистра одно кольцо его спасёт, и то самого, но не власть. И еще малолетнее дитя — у меня уже тогда оно было. Меня ведь незадолго до того прямо закоротило на ребёнке: все бабы могут, а я что — после того издевательства в тюрьме неспособна сделалась?
Она привстала, чтобы помешать варево, что готовилось над приглушенным огнём очага:
— От травок самое горькое пшено станет сладким, самая замкнутая женщина — плодовитой. Так говорят в Эдине, да и в лесном Эрке тоже. Тот дворянский юнец был вроде как монах по жизни, я у него была единственным опытом такого рода. В первый раз убил в запальчивости — с грубым умыслом коснулись его сабли. В первый раз познал женщину. Его до суда выпустили в город под залог и поселили неподалёку от самого охраняемого в городе места.
— До суда.
— Ну конечно. Что еще делать с человеком, который органически не приемлет ни бесчестия, ни убийства? — ответила Карди, будто повторяя чужую фразу. Его имя было, как помню, Даниэль Антис. В ту дурацкую войну был сущим мальчишкой — офицер по праву высокого рождения — и настоящего дела не нюхал ни разу. Один наш «красный плащ» в пылу ссоры хватил рукой за его наполовину обнаженную шпагу, а это ведь смертное оскорбление. Хуже, чем за яйца взять. И отвечают на такое инстинктивно. Ну, он выдернул «чёрное жальце» из чужих рук и вгорячах рубанул оскорбителя чести от плеча вплоть до задницы. Его потом сутки рвало жёлчью с непривычки. Меня попросили защитить, среди моих знакомых был один набивший руку адвокат, специализировавшийся на подобной клиентуре. И приглядеть заодно… О, как сразу вкусно запахло! Теперь только бы не подгорела наша с тобой стряпня.
Попробовала с ложки.
— Самое то, что нужно для такого денька. Тем зимним утром тоже было холодно: снежило, завораживало, смывало горечь с души, и в воздухе плясали такие же танцовщицы в пышных белых юбочках. Ветер относил их в сторону и бросал наземь, но оттого их не становилось меньше…
Мальчик на самом рассвете проснулся и вышел на порог дома. И как раз прошла мимо него смутная фигура, обёрнутая в длинную накидку. Широкий капюшон ложился на плечи, под плащом прятался вечерний туалет или верховой наряд — женщина? Судя по походке, гибкой прямизне стана, гордому поставу головы, она была молода, но именно таких он и не хотел. Боялся роскошных победоносных самок, остерегался неопытных, как он сам, девственниц и пуще огня боялся нежного материнского начала.
В ее голосе зазвучали чужие нотки, словно она передавала историю с чужих слов.
— Но эта женщина двигалась иначе: не раскачивая бедрами, как большинство их них, не оглядываясь кокетливо. Будто парила, летела над землей вместе со снегом. Так легка и просторна была ее поступь, что юноша начал отставать почти сразу. Но она замедляла шаг, точно подманивая, — и снова уходила, легко вынося вперед маленькую ножку в отороченном мехом башмаке. Двое почти бежали незнакомыми улицами, почти деревенскими — одноэтажные дома, покрашенные будто самим временем, заборы из штакетника с резными навершиями или хитроумно переплетенной ивы, плакучие березы и ладные дубы. И когда уже сердце подступало к самому горлу и во рту появился солоноватый привкус — тогда женщина остановилась: он чуть не налетел на нее с разгона. Остановилась и обернула к нему смеющееся лицо. Глаза были очень чистого синего цвета, говорил он потом, — как зимнее небо при ясном солнце. Светлая прядь легла на ворот, голос мягко толкнул его в грудь:
— Спасибо, до дому вы меня проводили. Не зайдете ли внутрь? Обогреетесь, чаю выпьете, вина согрею ради гостя.
Он послушался, как заворожённый. Без лишних слов — иногда они только мешают.
Горячее вино цвета спелого граната, с запахом корицы и гвоздики, терпкий чай почти того же цвета. Комната с выцветшими гобеленами, старинным оружием, развешанным поверх них, с шаром резной слоновой кости вместо светильника — электричество еле пробивалось насквозь — показалась ему величиной со скорлупу грецкого ореха: так много было книг. Рядами выстроились на стеллажах, угнездились на крышке распахнутого бюро, стопками возлегли на письменный стол и на узкий старомодный диванчик…
Сроду не видал подобного книжного богатства, признался он, хотя в роду были отпетые книжники. Мы бродили в этом море по щиколотку, размыкали застёжки тяжких переплетов, любовались золотыми, киноварными, изумрудного цвета заставками, причудливостью инициалов, отдували шелковую бумагу с гравюр.
— Это всё твои? — спросил он. Не договариваясь, мы стали с ним на «ты».
Я рассмеялась:
— Не в том смысле, какой придают этому твои родичи. Мне их сюда привозят — ничейные, брошенные, пережившие своих людей. Книги, которые умирают.
— Твой голос — что серебро звенящее, как чистая вода, бегущая по ложу из камней, — ответил он. — Ты-то сама какого рода?
— По матери я Стуре. Они все поголовно были букинисты, архивариусы, учителя премудростей. А род Антис ведёт свое начало от кузнецов, воинов и оружейников. Оттого ты библиями любуешься, а на клинки уголком глаза таки поглядываешь. Скажешь, нет?
— Значит, ты угадала моё прозвание и историю?
— Не так уж это и сложно. Угадать и догадаться.
Не только об имени, но и о том, что последует за разговорами. Ибо всё было предопределено с самого начала. Волосы, которые я подколола на висках и распустила по спине, казались ему плащом из золотой пряжи, щёки зарозовели с мороза, губы окрасились вином.
— Ты и в самом деле из аристо, причём с обеих сторон — зачем оговорка насчёт матери? Такое почти инстинктивное чувство собственного достоинства, устоявшееся благородство слов и движений говорят сами за себя.
— Или о том, что я много тебя старше, а опыт мой — не обычный женский, — ответила я. — Тяжелый опыт, что любой другой не по плечу.
Не знал он, кто перед ним, или отстранял от себя неуместное знание?
Мы еще что-то пили, шутя пытались доставать прямо ртом бирюльки со дна плоской чаши, как будто я была гейшей с тех драгоценных гравюр укиё-э, что мы рассматривали. Читали друг другу стихи, на разных языках говорящие об одном и том же, листали старинные рисунки и акварели, что всё более откровенно повествовали нам о земной любви. У меня было много таких — привозили специально, ибо для тогдашних государственных библиотек это уж никак не годилось. Обречено было на безвестную гибель в схронах… И он уже ничуть не боялся того, что должно было произойти. Что надвигалось на нас тугой волной. Стояло за спинами и обдавало жаром.