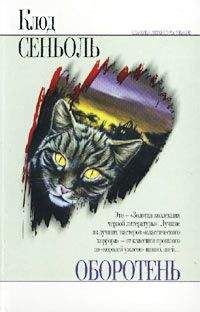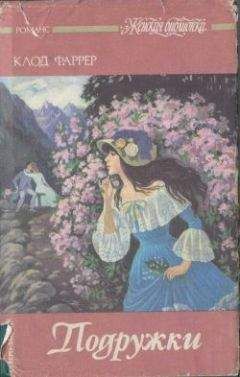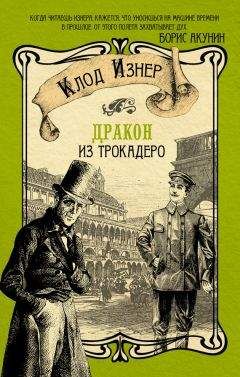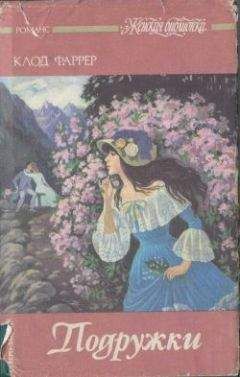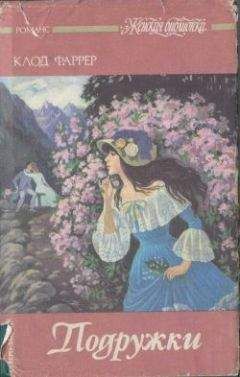Клод Лалюмьер - Витпанк
— Слушай, парень, так ты ничего не выиграешь. Держись лучше тихо — пусть все уладится само собой. Ты добьешься только того, что тебя пристрелят.
Но Сквернослов, не обращая на меня внимания, двинулся по направлению к двери, из которой мы вышли на крышу. Ему пришлось три раза пнуть ее ногой, прежде чем она затрещала и подалась. Я посмотрел вверх, на frères в корзинах — они спокойно наблюдали за происходящим.
За высаженной дверью ждал маленький жилистый frère. Широко улыбаясь, он вышел навстречу Сквернослову. Тот саданул его в солнечное сплетение, и frère тихо ухнул, но улыбка не сошла с его лица.
Сквернослов взял его в захват и оторвал коротышку от земли. Frère сносил избиение, как мне показалось, довольно долгое время — он лишь уворачивался, чтобы избежать ударов, нацеленных в пах и в лицо. Все трастафара на крыше примолкли, глядя на них и ежась от холода.
В конце концов frère решил, что с него достаточно. С легкостью разорвав захват, он спрыгнул на землю и тут же ударил Сквернослова по обоим ушам одновременно. Тот пошатнулся, и коротышка-frère осыпал его градом жестких, коварно-коротких ударов в ребра. Я услышал треск.
Сквернослов начал валиться на землю, но frère поймал его, поднял над головой и тяжко, как копер сваю, всадил в гравий. Там парень и остался лежать без движения. Голова его была вывернута под таким углом, который не позволял предположить, что он сможет когда-либо подняться.
Frères слезли со своих вышек; один из них закинул Сквернослова за плечо, словно мешок с картошкой, и понес вниз по лестнице. Убивший его коротышка отступил назад в дверной проем и притворил за собой сломанную дверь.
— Одевайтесь, — провещал силовик с громкоговорителем.
Нас согнали вниз по лестнице без единого слова. Толпа двигалась с абсолютной покорностью, и я понял логику действий либертинцев. Устрашенные, с упавшим до нуля сахаром в крови, томимые жаждой, мы не оказывали совершенно никакого сопротивления.
В помещении на третьем этаже кабины и столы были все составлены в один угол, чтобы освободить наибольшее пространство. На расчищенном месте стояло несколько длинных столов, на которых были водружены промышленных размеров котлы с каким-то варевом. Оно исходило паром, но пахло пресно и совершенно не вдохновляюще. Мой рот наполнился слюной.
— Постройтесь в колонну по одному, — скомандовал вчерашний сержант, ждавший нас у одного из котлов в переднике поверх формы и с черпаком в руке.
Он внимательно оглядывал каждого из трастафара, по очереди подходивших к нему с большими мисками в руках, накладывая им тщательно отмеренное количество разваренных овощей и комковатого картофельного пюре и заливая все это бурой маслянистой подливкой. Каждому из нас выдали также по черствой французской булке и по чашке апельсинового сока.
Мы расселись на полу и жадно принялись за еду, поставив миски на колени. Здесь, во всеобщей сумятице, frères расслабились и позволили мужчинам и женщинам вновь смешаться.
Любимые находили друг друга и надолго сливались в объятиях, а затем ели в молчании. Я ел один, прислонившись спиной к стене и наблюдая за остальными.
После того, как все получили свои порции, сержант принялся расхаживать между группами людей, поминутно наклоняясь, чтобы что-нибудь сказать или пошутить. Он хлопал людей по плечам, раздавал сигареты, и вообще был очень мил и любезен.
Наконец он подошел ко мне.
— Здравствуйте, monsieur Розен.
— Здравствуйте, сержант.
Он присел возле меня.
— Как вам еда?
— О, очень неплохо, — ответил я без иронии. — Хотите булки?
— Нет, благодарю.
Я оторвал от батона кусок и принялся подбирать им подливку.
— Очень жаль, что так получилось с вашим другом, там, на крыше.
Я выразил протест. Сквернослов вовсе не был моим другом, а я знал, что в ситуациях, подобных этой, необходимо проводить четкие разграничения относительно своих привязанностей.
— Вот как, — он задумчиво посмотрел на трастафара. — Однако вы понимаете, почему это должно было произойти?
— Полагаю, что да.
— И почему же?
— Ну, после того, как о нем позаботились, все остальные увидели, что сопротивляться нет смысла.
— М-да, пожалуй, и это тоже. Но есть и другое, а именно: на войне нет места неповиновению.
На войне. Ха!
Сержант прочел мои мысли.
— Да, monsieur Розен, на войне! Мы до сих пор сражаемся за каждую улицу в северных предместьях. Говорят, американцы требуют, чтобы ООН выслала сюда «миротворческую» миссию — они называют это операцией «Гавана». Боюсь, ваше правительство весьма косо смотрит на то, что мы национализируем их магазины и конторы.
— Это не мое правительство, сержант…
— Абален. Франсуа Абален. Я должен извиниться — я забыл, что вы канадец. Где, вы сказали, вы живете?
— У меня квартира на Рю Техас.
— Да-да. Вдали от зоны боев. Вы и другие êtrangers[29] держите себя так, словно наша борьба — не более чем малоинтересная телепередача. Такое положение не может длиться вечно. Вы расставили свои палатки на склоне дымящегося вулкана, и вот теперь лава добралась и до вас.
— Что вы хотите этим сказать?
— Я хочу сказать, что нашей армии необходим вспомогательный персонал — повара, помощники механиков, писари, дворники, конторские служащие. Каждый честный парижанин уже отдает нам все, чем только может пожертвовать ради Дела. Теперь настало время и для вас, все это время наслаждавшихся великолепием Парижа в комфорте и совершенно бесплатно, оплатить свое проживание.
— Сержант, не хочу вас обидеть, но у меня в ящике стола лежит пачка квитанций за арендную плату. Я исправно плачу бакалейщику. Я оплачиваю свое проживание.
Сержант прикурил сигарету и глубоко затянулся.
— Некоторые счета нельзя оплатить деньгами. Если ты сражаешься за свободу группы, группа должна заплатить за это.
— Свободу?
— Ах, ну да. — Он кинул взгляд в сторону трастафара, которые сидели, прислонясь друг к другу и глядя в пол, абсолютно подавленные. — Когда речь идет о свободе, может оказаться необходимым урезать личные свободы нескольких отдельных человек. Но ведь, в конце концов, это же не рабский труд: каждому из вас заплатят за работу полновесными коммунарскими франками по существующему курсу. Этим испорченным детям нисколько не повредит, если они немного честно поработают.
Я решил, что, если мне когда-либо предоставится случай, я убью сержанта Франсуа Абалена. Но пока что я подавил свой гнев.
— Моя кузина, молоденькая девушка по имени Сисси — ее тоже взяли этой ночью. Она приехала всего на несколько дней и попросила меня сводить ее в этот клуб… Ее мать, должно быть, с ума сходит от беспокойства.
Сержант вытащил из кармана куртки электронный блокнот, со щелчком раскрыл его и что-то нацарапал стилом.
— Как ее фамилия?
— Блэк. С-И-С-С-И Б-Л-Э-К.
Он снова почиркал по блокноту и, нахмурясь, уставился в дисплей. Потом чиркнул еще.
— Мне очень жаль, monsieur Розен, но здесь нет никаких записей касательно девушки по имени Сисси Блэк. Могла она назваться другим именем?
Я задумался. Я не видел Сисси десять лет, пока она не написала мне электронной почтой, что собирается в Пари. Она всегда казалась мне открытой, уязвимой девочкой, хотя я был вынужден изменить свое мнение о ней в лучшую сторону после того, как она без единого слова переварила эту долгую поездку в автобусе. И тем не менее я не мог себе представить, чтобы у нее хватило смекалки так вот, с ходу, выдумать себе другое имя.
— Нет, не думаю. И что это может означать?
— Возможно, ошибка в записях. Понимаете, мы все тут так перегружены… именно поэтому, собственно говоря, вы и находитесь здесь. Я поговорю с сержантом Дюмон, она руководила набором женщин. Уверен, с вашей кузиной все хорошо.
Наше «обучение» началось со следующего утра. Это было похоже на школьный урок физкультуры с вооруженными до зубов учителями — бег, приседания, прыжки на месте, даже лазание по канату. Меньше всего они заботились о том, чтобы привести нас в хорошую форму; главной идеей здесь было окончательно притупить последнее чувство самостоятельности, какое еще могло у нас сохраниться. Я старался побольше думать о Сисси — о том, куда она могла подеваться и что с ней могло произойти. На протяжении нескольких дней мои предположения становились все мрачнее и мрачнее; в конце концов я уже начал представлять себе, что ее используют в качестве сексуальной игрушки для старших членов Коммуны. У меня не было никаких причин так считать — в своей решимости не позволять сексу вмешиваться в политику коммунары могли поспорить с викторианцами или маоистами, — но я исчерпал уже все, даже отдаленно приемлемые, возможные варианты. А потом однажды вечером я вдруг осознал, что с момента пробуждения вообще ни разу не вспомнил о ней. Утомление окончательно иссушило мой мозг, и все, о чем я мог теперь думать, был следующий перерыв на отдых.