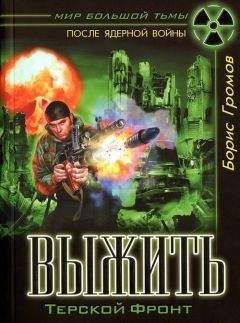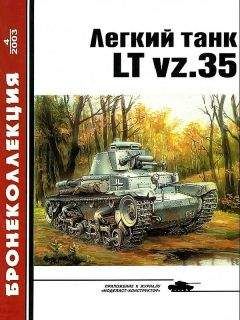Александр Прозоров - Воля небес
Погибнуть в великом морском сражении первому русскому адмиралу не довелось. Судьба ехидно посмеялась и над ним, и над его врагами. Польскую эскадру, пришедшую воевать против русского адмирала, датчане заманили в бухту Копенгагена и конфисковали, не позволив сделать по врагу ни единого выстрела. А в октябре тысяча пятьсот семидесятого года в том же Копенгагене был арестован и сам Роде – его взяли на берегу, в таверне, после чего и царский флот попал в датскую казну.
Итак, в июне семидесятого года русский адмирал Карст Роде вышел в Варяжское море на одном лишь протекающем шитике, к середине июля он уже полностью перекрыл это море для навигации враждебных держав, доведя в итоге свою эскадру до семнадцати вымпелов, а в октябре все того же семидесятого года оказался в тюрьме, ожидая виселицы. Во всяком случае, именно виселицы требовала ему собравшаяся в декабре в Померании конференция морских держав: Швеции, Франции, Польши, Дании, Саксонии, города Любека, Гданьска, Бремена и еще нескольких ганзейских городов…
Большая война
– Долгонько ждать тебя пришлось, подьячий Басарга Леонтьев, – укоризненно покачал головой государь Иоанн Васильевич, глядя на слугу с высоты своего трона. – Помнится, еще летом грамота тебе отослана была, а ныне уж Рождество на носу. Ты же токмо сейчас заявился. Чем оправдываться станешь?
Несмотря на то что двор царский ныне пребывал в Александровской слободе, Иоанн был одет в крытый шелком, стеганый халат с бархатным воротом и краем подола, а голову его прикрывала такая же бархатная с атласным краем тафья. Несколько молодых слуг, стоящих по сторонам от трона, тоже одеты были хорошо: цветные сапоги и шаровары, ферязи и кафтаны с вышивкой, пояса наборные. Сиречь – никаких ряс и скуфий, крестов и икон. Службу в здешнем соборе, как слышал Басарга, «игумен всея Руси» тоже уже давненько не вел. Похоже было, что остыл правитель к своему монастырю, наигрался.
Впрочем, после того как церковный собор буквально загрыз достойного, но худородного митрополита, а виновного в смерти святителя архиепископа царь самолично обвенчал с пегой кобылой, после чего сослал куда-то на окраину – остыть к схиме было совсем не удивительно. После всего пережитого Иоанн заметно осунулся и пополнел. Причем полнота была не веселая и притягательная, как в Матрене, а тяжелая, нездоровая.
– Чего молчишь?
– Прости, государь, – склонил голову боярин Леонтьев. – В схватке морской ранен был, болел тяжко. В поместье везли, почитай, месяц. Там о приказе твоем и узнал. Но пока исцелился, распутица настала. Токмо после нее в седло подняться и смог. Посему и припозднился.
– Ну да, как же, помню, – нахмурился Иоанн. – Брат мой король польский и литовский Сигизмунд Август письмо в августе прислал, в коем попрекал сильно, что войну не по правилам веду, урон большой честным купцам причиняю и по морю Варяжскому плавать вовсе невозможно стало. Стыдно мне за то быть должно, позорно, а корсаров своих я, мол, обязан отозвать.
– Но ведь ты сам сей приказ отдавал, государь! – вскинул голову Басарга. – Жечь, разить и захватывать!
– Да, я, – согласился Иоанн. – Так ведь я тебя не ругаю, а хвалю, нешто ты не понял? Коли король мне письма такие присылает, стало быть, припек ты его крепко. За то награду получишь особую… – Царь опять нахмурился.
– Государь? – встревожился Басарга.
– Кости мне чего-то ломит, мочи нет, – поднял голову царь. – Когда в бане попарюсь, так чуток отпускает. Но порою опять подступает… Поститься надобно чаще. В пост вроде как легче.
– Но, государь… Может статься, чудотворные мощи Варфоломея Важского? – осторожно намекнул подьячий. – Многих исцелили!
– Была у меня сия надежда, – неожиданно повысил голос Иоанн. – Да слуга самый верный пропал куда-то! Да так, что не сыскать!
– Виноват, государь, – опять склонил голову Басарга.
– Ладно, не гневаюсь, – скривился Иоанн. – За письмо Сигизмунда многое простить согласен.
– Прикажи, государь! Я мощи прямо к твоим ногам доставлю.
– Не к месту ныне! – вскинул руку царь. – Иная беда державе нашей грозит. Купцы и послы наши из Царьграда османского доносят, оправился султан после астраханского похода. Силу набрал новую, а ненавистью пылает прежней. И от обиды за поражение минувшее ненависть сия токмо сильнее в душе его горит. Поход новый басурмане готовят. Страшнее прежнего, да притом не на украины державы нашей направленные, а в самое сердце метится. Рати османские десятками тысяч исчисляются, пушки сотнями, янычары, сказывают, любых воинов в мире сильнее. Большая война грозит Руси православной, большая кровь на земле нашей прольется.
– Я понимаю, государь!
– Что делать, тебе ведомо. – При боярах, не посвященных в великую тайну, Иоанн даже полунамеком не выдал, о чем именно идет речь. – Доверенные люди доносят, армии басурманские уже созываются и по весне в поход выступят. Будешь в Москве – о планах ответных думы боярской узнаешь. Ступай… – Государь тоже поднялся. – А я попариться схожу… Может статься, полегчает.
Басарга ослушаться не посмел, тем же днем поднялся в седло, направляясь обратно в поместье, и вечером после ведьмина дня[31] спешился возле Важской обители, остановил Тришку, собравшегося расстегнуть подпруги:
– Не нужно. Скачи в усадьбу, Тумрума о моем приезде упреди. А то вечно он не готов. Скажи, я, может быть, еще и всенощную отстою.
– Коли так, боярин, скакуна твоего напоить надобно, сена задать…
– Оставь, я сам. – Басарга кинул поводья на коновязь.
Тришка-Платошка изумленно помолчал. Потом пожал плечами и поднялся в седло:
– Мое дело холопье… Приказали – исполню.
Слуга помчался по тропинке в сторону леса. Подьячий, скинув шапку, перекрестился на икону Успения Богоматери, висящую на стене надвратной церкви, помолился. Оглянулся на тропу – мало ли, вдруг слуга вернется? Вошел в ворота. Там, на ведущей к церкви дорожке стоял, опустив голову, одинокий монах.
– Да пребудет с тобою милость Господа, отче, – обратился к нему Басарга. – Дозволь пройти.
– Что, даже не обнимешь? – поднял голову монах.
– Софоний? – едва не сел в сугроб подьячий. – Что за черт? Стоит на пару месяцев отлучиться – каждый раз словно в иной мир возвращаюсь!
– Не богохульствуй, сын мой, – улыбнулся ему побратим. – Ты же в монастыре христовом!
– Тебя ищут за измену? Ты прячешься? Зачем переоделся? – с надеждой спросил Басарга.
– Переоделся, потому что постриг принял, друг мой, – покачал головой боярин Зорин. – Чему ты так удивляешься? С людьми сие случается. И очень часто.
Подьячий зачерпнул горсть снега, отер им лицо и выдохнул:
– Мне нужно выпить!
– Пошли в трапезную, раз уж так невмочно.
– Не-е… – покачал пальцем боярин Леонтьев. – Там ушей лишних много.
– Тогда к Матрене-книжнице? У нее для нас завсегда угощение найдется. Ибо не знаю, как там у нее с торгом, но за работу в приюте хозяин ей оклад, как царскому розмыслу, положил, – подмигнул подьячему схимник.
– Лошадь у тебя тут есть?
– Зачем? До Корбалы полчаса пешком.
Боярин Леонтьев, успев забыть, что собирался на службу, отвязал поводья и пошел рядом с побратимом, ведя скакуна в поводу:
– Давай, сказывай, чего ты там учудил?
– Странно, что спрашиваешь, – вздохнул Софоний. – Ты ведь про меня все знаешь. В грехе зачат, проклятым родился, отверженным жил…
– Не прибедняйся, – покачал головой подьячий. – Отца с матерью ты, может, и не ведаешь, да токмо позаботились они, чтобы и звание у тебя было боярское, и доход надежный, и в книгу Разрядную записали, и кормление выделили…
– Это верно, голода я никогда не ведывал, – согласился побратим. – Ни голода, ни имени, ни звания, ни семьи, ни надежды на оную…
– Сколько помню, на невнимание девичье ты никогда не жаловался.
– Иногда внимания мало, друже. Иногда хочется не красть любовь, не от чужого пирога откусывать, а целиком и полностью себе желанную забрать.
– Ну, Агриппина Оболенская, как я понял, и без венчания, и без родовитости тебе полностью отдалась, из дома с тобою сбежала.
Софоний не ответил, и довольно долго они шли по тропинке молча, с хрустом давя сапогами снежные комки.
– Ты свою Агриппину хотя бы покажешь, друже? – не выдержал Басарга. – Али так прятать и будешь?
– Разве ты не знаешь? Она еще летом родами померла…
– Вот проклятье! – Подьячий скинул шапку, широко перекрестился: – Упокой душу рабы твоей… Прости, друже. Не знал.
– Теперь у меня есть безродная дочка и есть безродный сын, – горько вздохнул Софоний. – А Агриппины нет.
– И как ты решил?
– А ты сам подумай. Родился безродным, жил проклятым, соблазнил многих, влюбился в одну. Ради нее, единственной, даже на измену пошел, от царя и земли отчей отрекшись… Да токмо измена моя, и та провалилась. Надежд никаких, измену в любой миг слуги царские вспомнить могут, а та, ради которой перевернуть проклятие свое пытался, уже в мире ином, сверху мукам моим сострадает. К чему мне такая жизнь, что в ней осталось? Слава богу, хотя бы Господу до рода моего и имени дела никакого нет. Господь всех равно милостью и любовью оделяет – и князей, и убогих. Вот к нему и пришел.