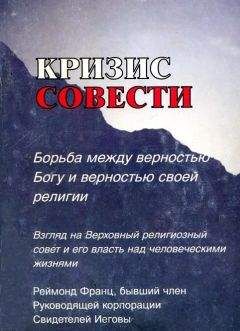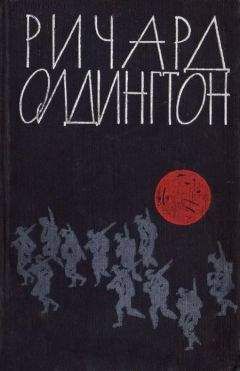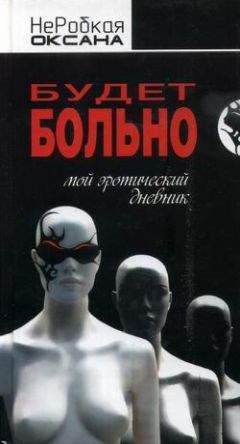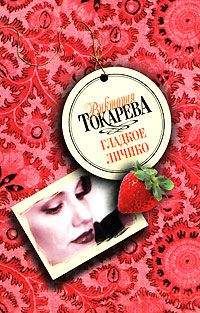Владимир Софиенко - Небесная кобра
— Ничего, отец, — увлажнившиеся глаза лейтенанта вдруг загорелись ненавистью.
Он смотрел, как на западе зарево цвета киновари уже залило своим огнём пики вековых деревьев, и отблески этого пожара трепетали в его глазах.
— Разобьём фашистов — заживём! — всё больше распалялся пилот. — За всё ответят сволочи! За товарищей, что в тайге лежат, за то, что вы тут травой питаетесь, за всё! — Пилот сжал кулак и угрожающе потряс им в воздухе.
«Нет, на любителя не похож, — подумал дед, — слишком натурально играет».
— Тебе там сверху виднее, сынок, когда войне-то конец? — решил подыграть дед, чтобы мысленно выдать окончательный диагноз заигравшемуся «лейтенанту».
— Скоро, отец, скоро. От американских лётчиков я слышал, что вот-вот второй фронт откроется.
Дед почесал затылок. Глянул на новенький истребитель, потом на лётчика, задержал взгляд на Умке и махнул рукой:
— Шут с ним, пойдём ужинать, — и про себя добавил: «Поедим — увидим».
— Ради такого дела отведаем «второго фронта», — лётчик подмигнул, запрыгнул на крыло и, перегнувшись в кабину машины, покопался в своих вещах.
— Держи, дед! Чёрт с ним — с этим НЗ. — Он кинул вниз какой-то тёмный предмет.
Семён ловко поймал его и обомлел. В лучах заходящего солнца ещё можно было разглядеть на поблескивающей желтоватой поверхности жестяной банки надпись: «Свиная тушёнка», ниже шли какие-то письмена на английском. Семёнчик их не понял, а в самом низу, возле самого донышка банки, — уж никак не ошибиться — было выбито: New York, N. Y. Семёнчик узнал её: точно такую же банку американской тушёнки он как-то получил в свой день рождения от одного лётчика-истребителя на ремонтной площадке в Красноярске зимой сорок третьего года. Он уже не помнил, какая на вкус была тушёнка, но блестящая банка с надписями на русском и английском языках ещё долго стояла на полке, напоминая ему о военном детстве. Дед зачарованно смотрел на банку. Лейтенант что-то эмоционально рассказывал, шагая взад-вперёд рядом с оглушённым таким совпадением Семёнчиком, но тот его будто бы и не слышал.
— Скажи там у вас в сельсовете, так, мол, и так, пусть людьми обеспечат, — потряс его за плечо пилот.
— Что? — встрепенулся Семёнчик.
— Я говорю: людей бы сюда, чтобы пляжную полосу подровняли. Мало ли что. Мне вот повезло — приземлился. А я своим доложу, что есть на экстренный случай запасная полоса. Ну, договорились?
— Угу.
— Хворост имеется? — лётчик потряс коробком со спичками.
— Угу, — задумчиво ответил дед и вытряхнул из рюкзака хворост. Он взял протянутый в темноте коробок — на этикетке нарисованный истребитель с красными звёздами преследовал горящий самолёт со свастикой. Привычным движением Семёнчик достал спичку и чиркнул о шероховатую поверхность серы. Спичка вспыхнула. Вдруг порыв ветра загасил огонь. Дед, наконец, решился: он чиркнул снова и полуласково, участливо спросил:
— А скажи-ка, мил человек, какой сегодня, по-твоему, год?
Семёнчик поднял спичку так, чтобы в сумерках можно было разглядеть лицо напротив. Никого не было. Дед вышел из гаража, огляделся — никого.
— Что за чертовщина?! — прошептал он пересохшими губами.
— Солдатик! — жалобно позвал он в темноту.
Тишина.
Он глянул на речку, и неприятный холодок пробежал у него по спине.
В наступившей темноте ещё можно было разглядеть, что никакого самолёта там не было — даже следов. Речка была, чёрная стена тайги по-прежнему прикрывала пляж, где ещё недавно стоял истребитель, но сама машина как в воду канула. Семёнчик, в глубине души сожалея о своём партийном прошлом, три раза выразительно перекрестился:
— Царица небесная, спаси и сохрани!
Всю ночь дед не сомкнул глаз. Полная луна присматривала за Семёном огромным жёлтым глазом, заливая серебром ровную дорожку пляжа. А дед палил деревину, и ему мерещилась всякая нечисть: то тень отделится от деревьев на том берегу реки, то сама река вдруг оживёт причудливыми тварями, то вскрикнет в тайге кто-то жалобно. Умка тоже не спал. Отойдёт от костра недалеко, прислушается, мордой поводит — запахов тревожных соберёт и — назад, к огню, под защиту хозяина. С первыми лучами Семён засобирался в обратный путь. Только дома, плотно закрыв за собой дверь и зашторив окна, он заглянул в рюкзак. Вынуть банку сразу не решился, всё ощупывал, рассматривал в тёмной утробе рюкзака, словно не верил холодку под пальцами, а потом, вытащив банку с тушёнкой на свет божий, постановил по центру стола и долго глядел на неё.
— Хорошо, — сказал он, наконец, сам себе, — посмотрим.
На следующее утро Семёнчик был во всеоружии. В рюкзаке уже лежала нехитрая снедь с расчётом на три дня, коробка с патронами, тёплый свитер и другие нужные в тайге вещи. Задержавшись в сенях, дед выхватил из груды сложенных в углу огородных инструментов лопату, возле крыльца отвязал радостно прыгающего Умку.
— Где пропадал, Семёнчик? Я вчерась ужо хотела к участковому идтить, — окликнула возле калитки соседка Никитична.
— Ты лучше приставь его к Лёхе, внуку своему. Опять рулады ночью под окнами выводил, — отрезал дед, пресекая расспросы.
Крючок на калитке брякнул, и хозяин, не оборачиваясь, поспешил в сторону леса — Умка не отставал. Теперь дед шёл короткой дорогой и к полудню был на месте. Набрал хвороста, наломал ещё лапника, оборудовал место для ночлега и стал ждать. Самолёт появился неожиданно, как и накануне. Махнув звёздными крыльями, пошёл на посадку. Притулив в угол ружьё, Семёнчик теперь сам вышел навстречу лётчику.
— Лейтенант Терентьев, лётчик, — первым снова представился пилот, будто и не виделись они вчера.
Тот же тревожный взгляд, нервные пальцы у кобуры…
Семёнчик тоже представился.
— Что за строения? — поинтересовался лётчик.
— Да вот… Охраняю, — уклончиво сказал дед.
Пошли к кострищу, разговорились: «Вот — второй фронт. Надо бы полосу подготовить. Хворост есть?» Семёнчик добросовестно отвечал на все вчерашние вопросы, внимательно слушал будто заученную речь пилота о пригодности полосы. А в полночь сказочной Золушкой снова исчезли и лётчик, и самолёт.
К середине июня в кухне на столе у Семёнчика красовались пятнадцать банок американской тушёнки и пятнадцать неполных коробков спичек. Дед Семён всё так же исправно ходил в тайгу, счищал лопатой мох с каменистой поверхности пляжа, срезал кусты, встречал самолёт. Он давно перестал терзать себя вопросами и разными думами: что за самолёт, откуда он берётся, кто такой этот лётчик Терентьев? Всё равно ничего не надумаешь. Работы было много, и дед, как когда-то маленький Сёма, так же помогал своим. Вновь после смерти своей старухи он радовался жизни, ему нравилось встречать самолёт, «удивляться» второму фронту и даже слушать заезженную речь пилота. Дед как-то попытался сменить тему разговора, но лётчик словно не слышал Семёна, гнул своё: надо, мол, полосу делать — и всё тут. И Семёнчик делал. Только вот силы у него были уже не те. Это раньше, в молодости, он мог на себе целые небольшие стволы деревьев таскать. Теперь же ему нужен был помощник, чтобы свалить пару пихт. Работника следовало подобрать неболтливого и в руках чтобы сила была — не на прогулку идти. После недолгих раздумий выбор пал на Лёху-десантника — внука Никитичны. Было ему под тридцать. Лёха этот после армии в город подался, в деревне говорили, что там на него то ли братки наехали, то ли он сам в братках ходил. В общем, сбежал он из города от кого-то — может от властей, а может от бандитов. История тёмная, но Семёнчика не это заботило. Лёха сильно пил. Бывало, вечером начнёт песни орать — спасу нет. Утром ходит по дворам — работу ищет, где за деньги, где за поллитру, а вечером снова заводит «Ан двенадцать набирает высоту», и под конец песни какой-то паренёк, «не найдя купола над головой», в очередной раз разбивался насмерть. Последний куплет всегда шёл вперемешку рыданиями Лёхи и диким воем Буяна, собаки Никитичны.
— Ну что, пихту завалить сможешь? — спросил дед Лёху.
— Для тебя, дед, хоть слона завалю, — Лёха возвращался с халтуры и был навеселе. — Я, Семёнчик, всегда правофланговым был. — Двухметровый детина самодовольно улыбнулся и сильнее заломил на голове замасленный голубой берет.
— Ты сегодня свою шарманку не заводил бы…
— Какую ещё шарманку? — мутные глаза Лёхи подозрительно уставились на соседа.
— Ту, из-за которой десантник всё падает да никак разбиться не может. Выспаться надо. Пойдём спозаранок.
Наутро изрядно помятый Лёха зашёл к Семёнчику.
— Дед, аванец бы мне…
— Какой ещё «аванец»? — сурово поднял бровь Семёнчик.
— Граммов сто…
— Ничего, на месте опохмелишься, гвардеец. Жди меня во дворе, — дед был непреклонен.
Перед выходом Семёнчик открыл шкаф в спаленке, извлёк из-под всякого тряпичного хламу огромную бутыль с коричневатой жидкостью, с усилием вытащил пробку, поморщился от самогонных паров, ударивших в нос, и, наполнив жидкостью поллитровку, сунул её в рюкзак.