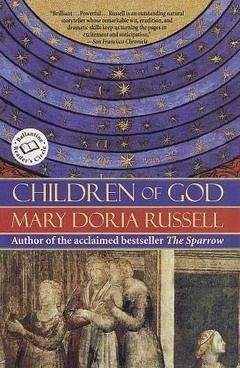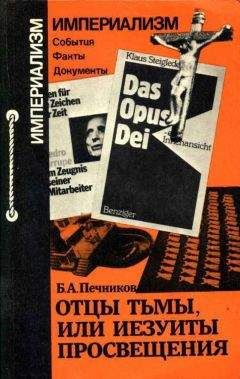Мэри Расселл - Птица малая
Той ночью Энн проснулась, не понимая, что ее потревожило. Первой мыслью, сопровождаемой приливом адреналина, распахнувшим глаза Энн во тьму, было, что Д. У. снова стало хуже или что еще кто-то стал жертвой мести руна. Она прислушалась, пытаясь уловить какой-нибудь намек, но услышала лишь тихое похрапывание Джорджа, спавшего глубоко и без сновидений. Зная, что не сможет успокоиться, пока не проверит всех, Энн со вздохом подумала: я уже наполовину превратилась в мамашу с весьма странной компанией деток. Она натянула одну из огромных футболок Джимми и выбралась из палатки.
Сперва Энн подошла к Д. У, затем, успокоенная, направилась к Джимми, спящему в другом углу. С болью посмотрев на пустующие постели Марка и Софии, она пожалела, что не способна молиться, – тогда их отсутствие не наполняло бы ее такой беспомощной тревогой. Затем увидела, что и третья постель пустует, но прежде, чем екнуло сердце, расслышала слабое клацание клавиатуры. Пробравшись по каменной тропке, которую смогла бы оценить разве коза, Энн нырнула в соседнюю дверь, ведущую в жилье Аучи, и увидела своего любимого «сына», стоявшего на коленях перед низким столиком, словно ученая гейша, и быстро стучавшего по клавишам.
– Эмилио! – тихо воскликнула она. – Какого дьявола…
Не поднимая взгляда, он покачал головой и продолжил печатать. Опустившись рядом с ним на подушку, Энн прислушалась к ночным звукам. Ей показалось, что пахнет дождем, хотя камни были сухими. Что ж, подумала она, заметив возле Эмилио радиомонитор, я не единственная, кто за них переживает.
Марк и София доложили, что попытаются сесть, и с тех пор на связь не выходили. Джимми считал, что причина, возможно, в сильной грозе, разразившейся по другую сторону гор, но Джордж сказал, что это лишь исказило бы сигналы, а не заглушило их вовсе. Предполагать самое страшное не хотел никто.
Эмилио печатал еще некоторое время, затем закрыл файл, удовлетворенный тем, что настучал достаточно, дабы утром восстановить цепочку мыслей.
– Извини, Энн. Я думал сразу на четырех языках, и если б мы заговорили…
Он растопырил пальцы и издал губами звук, напоминающий взрыв.
– Как они у тебя не перепутываются? – спросила она. Зевнув, Эмилио растер лицо.
– Не всегда удается. Это забавно. Если я в совершенстве, не пропуская слов и не путая мысли, понимаю разговор на арабском, амхарском, на руанджа или еще каком, то запоминаю все детали, как если бы он проходил на испанском. А польский и инупиакский не задерживаются в памяти.
– Те, которые ты освоил на Аляске, между Туком и Суданом, верно?
Кивнув, он плюхнулся на подушку, разминая пальцами глаза.
– Возможно, эти два я освоил не очень хорошо, потому что был обижен, когда их учил. Я так и не привык к холоду, к темноте и подозревал, что трачу время впустую. – Убрав руки от лица, Эмилио искоса посмотрел на нее. – Нелегко быть послушным, если считаешь своих начальников ослами.
Энн фыркнула. Его не упрекнешь в излишней лояльности, подумала она.
– По крайней мере, в Судане было тепло.
– Не тепло. Жарко. Даже для меня – жарко. И к тому времени, как я попал в Африку, я уже сильно продвинулся в освоении языков в полевых условиях. И там… ну, профессиональное раздражение казалось мелочным и неуместным.
Эмилио сел и уставился в темноту.
– Это ужасно, Энн. Прежде всего надо было накормить людей. И сохранить жизнь детям.
Он потряс головой, прогоняя воспоминания.
– До сих пор удивляюсь, что за тот год выучил три языка. Это произошло само собой. Там я не был лингвистом.
– А кем был?
– Священником, – сказал он просто. – Именно тогда я на самом деле стал понимать то, что было сказано при посвящении: «Tu es sacerdos in aeternum»[44].
Священник навечно, подумала Энн. Неизменно и всегда. Прищурившись, она изучала это изменчивое лицо: испанец, индеец, лингвист, священник, сын, возлюбленный, друг, святой.
– А сейчас? – спросила она тихо. – Какой ты сейчас, Эмилио?
– Сонный.
С нежностью обхватив Энн за шею, он притянул ее ближе и коснулся губами ее растрепанных волос, серебристо-золотых в свете походной лампы.
Она указала на монитор:
– Слышал что-нибудь?
– Энн, я бы объявил от этом. Громко и во всеуслышание.
– Д. У. никогда не простит себе, если с ними что-то случится.
– Они вернутся.
– Почему ты так в этом уверен, всезнайка?
Повинуясь велению сердца, Эмилио процитировал Второзаконие:
– «Вы собственными глазами увидели, что сделал Господь, ваш Господин».
– Я видела, что могут сделать люди…
– Ты видела что, – признал он, – но не почему! Вот в чем Господь, Энн. В этом самом «почему».
Поглядев на Энн, он понял ее сомнения. А в его душе было столько радости, такое цветение…
– Хорошо, – сказал Эмилио, – скажем так: в почему есть поэзия.
– А если София и Марк лежат в груде обломков? – требовательно спросила Энн. – Где тогда поэзия Бога? Где поэзия в смерти Алана, Эмилио?
– Бог знает, – сказал он, и в его тоне было как признание смерти, так и утверждение веры.
– Видишь, вот здесь-то все и рассыпается! – воскликнула Энн. – Меня всю жизнь терзает вопрос – почему Богу достаются похвалы, но Его никогда не винят. Я не могу с этим согласиться. Или Бог отвечает за все, или Он не отвечает. Что ты делал, Эмилио, когда дети умирали?
– Плакал, – признался он. – Иногда я думаю, что Господу нужно, чтобы мы плакали Его слезами.
Наступила долгая пауза.
– И я старался понять Его.
– А сейчас понимаешь? – спросила Энн почти с мольбой. Если б Эмилио сказал, что понимает, она бы ему поверила.
– Можешь ты сейчас увидеть поэзию в смерти детей?
– Нет, – сказал он, помолчав; затем добавил: – Все еще нет. Ее трудно разглядеть и оценить.
Была уже середина ночи, и Энн встала, собираясь вернуться в постель, но обернулась и увидела на его лице знакомое выражение.
– Что? – потребовала она ответа. – Что?
– Ничего.
Отлично зная свою паству, Эмилио пожал плечами.
– Но если это все, что удерживает тебя от веры, то попробуй не сдерживаться и обвинять Господа в любой момент, когда сочтешь это уместным.
По лицу Энн расплылась медленная улыбка, и, задумавшись, она опять села рядом с ним на подушку.
– Что? – настала его очередь спросить.
В ее улыбке не осталось и следа благодушия.
– О чем ты думаешь, Энн?
– О, у меня есть претензии к Богу, – сказала она сладким голосом, а затем обеими ладонями зажала рот, стараясь удержаться от громкого смеха. – Эмилио, милое мое дитя, – лукаво произнесла она. – Похоже, нашлась теология, с которой я могу примириться! Ты даешь мне благословение – да, святой отец? Готов стать соучастником?