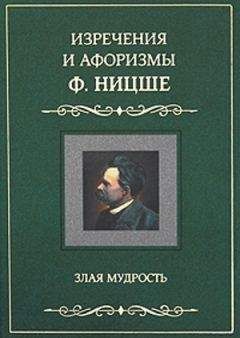Евгений Нестеренко - Тень ведьмы
Двое закованных в броню рыцарей с остервенением рубят друг друга тяжелыми боевыми топорами. Медленно взмахивают они грозным оружием, медленно наносят удары. Но видно, что ненависть и жажда убийства так и клокочут под панцирями, стремясь вырваться наружу.
Удар. Топор прорубил кирасу, но до тела не дошел - застрял. Рыцарь с рычанием упирается ногой в противника, выдергивает из него оружие. Противник, хрипло крикнув, взмахивает и рубит. Не выдерживает наплечник, лопается, брызгая во все стороны сталью. Погружается в тело топор. С хрустом перерубывая ключицу, увязает в мышцах.
Крови не видно. Но рыцарь падает. Падает, чтобы уже никогда не подняться. Умирает дух, покидая тело и оставляя неподвижным металл. Тот металл, который защищает и тот, который убивает.
Выползает из-под убитой лошади человек в глухом шлеме. Из-под шлема ему на грудь стекает кровь, сам шлем помят. Человек падает на колени, наклонив голову, с трудом снимает шлем. Поднимает к небу лицо. Лица нет. Вместо него кровавая каша. Нос раздроблен, раздавлены губы, выбит передний ряд зубов и сломана лицевая кость. Глаза залиты кровью.
Но человек открывает их. Петра пробирает дрожь - так страшно окровавленное лицо. Красная маска, а на ней - живой взгляд. Как передать, как объяснить этот взгляд? В нем смешались боль и страх, отчаяние и надежда, удивление и печаль. В нем мольба. Потому что глаза смотрят на небо.
Только неба нет. Оно прячется за фиолетовыми тучами, покинув обезумевших убийц. Оно отреклось от них.
А битва продолжается. Все громче и все бессмысленнее становятся крики. Они сливаются в сплошной непрерывный гул. В один густой, нечленораздельный голос. Этот голос давит Петру на уши, проникает в самое сердце. Он твердит одно слово, все отчетливее и отчетливее, заставляя сердце колотиться в одном ритме с вихрем мыслей. Остановитесь!
Петр распахнул глаза.
Все так же тянулась ночь. Угасла уже лампа, затихли все голоса, все звуки. Тишина поглотила ночь. Молчание. Только Иоанн слабо похрапывал, да вздрагивал во сне Лука.
Петр провел рукой по лицу. Что это, слезы? Но ведь он никогда не плакал. Не плакал, когда хоронил родителей, не плакал, когда терял товарищей. Не проливал слез, когда было больно, и когда было грустно. Даже тогда, когда надо было плакать, не плакал он.
Он вспомнил, что только ведьмы не плачут. На допросах, истязаемые самыми жестокими пытками, они лишь кривились, стонали, размазывали по щекам слюну, но так и не могли выдавить слез. "Смиренная слеза возносится к небу и побеждает непобедимого", - вспомнил Петр. Сатана не желает для отступников истинного раскаяния. Поэтому лишает их слез.
Мое сердце окаменело, подумал Петр. В нем не осталось жалости. Ему не до слез. Не до сострадания. Но как иначе? Как? "Чтоб добрым быть, я должен стать жестоким". Да, верно. Есть добро, и есть жалость. Жалость - она одинакова ко всем, она для всех. Для грешных и праведных. А доброта, доброта только для праведных. Жалость имел только Спаситель. Только он относился ко всем с одинаковой любовью. На самое же большее, на что способны мы - это доброта. Но этой благодати достойны лишь избранные, во всем стаде лишь агнцы заслуживают ее, чтобы ею защититься от козлищ. Да, и грешные могут добиться ее, только для этого они должны пройти путь от греха, через раскаяние, к прощению.
Петр вытер лицо и закрыл глаза.
Увидев Охотника, Севастьян застыл, не в силах вымолвить ни слова. А мать Марии не выдержала:
- Что с ней?! Не томи душу, голубчик, говори!
Видно было, что она не надеется на добрые вести и приготовилась к самому худшему.
- Не волнуйтесь, все с ней хорошо! - успокоил Охотник, усаживаясь на лавку. - Устал что-то, - виновато сказал он. - А насчет дочки не беспокойтесь - призвала ее графиня в замок, на службу. И Марту тоже. Просто в спешке вас упредить позабыли.
- Слава тебе, Господи! - выдохнула мать. - Я уж думала...
Она всхлипнула и не смогла продолжать.
- Ну все, мать, все, - торопливо произнес Севастьян. - Все хорошо. Сбегай лучше к соседям, успокой их.
Когда мать Марии ушла к родителям Марты, Охотник обратился к Севастьяну:
- Я у вас поживу еще какое-то время, лады?
- Да живи, конечно! - согласился Севастьян. - Я не против. А где твои приятели?
Охотник покривился.
- Расстались мы с приятелями. У них свой путь, у меня - свой. Каждому свое.
- Никак, не поделили чего?
- Да нет. Оно, вишь ты, и делить-то было нечего - зверя в логове не оказалось. И не логово то, выходит, было, а просто пещера. Пустая и темная.
Севастьян задумчиво поскреб бороду.
- Расстались, и шут с ними, - изрек он. - Ты, небось, проголодался? Да что я спрашиваю, конечно проголодался! Давай-ка к столу, пока щи теплые.
Они сели за стол. Охотник набрал ложку щей, подул на нее, отправил в рот. Пошарил по столу взглядом.
- Слышь, Севастьян, а нет ли у тебя чего "погорячее"? - с надеждой спросил Охотник.
- Выпить? Понимаем! - закивал Севастьян.
Он ловко извлек откуда-то из-за печки пузатый кувшин.
- Ну, давай! Крепкий вонючий самогон ударил в горло, обжигая язык. Охотник закашлялся, глаза у него заслезились. Севастьян довольно крякнул и расправил усы.
- Ох, крепкий, зараза! - выдавил Охотник, вытирая слезы.
- В самый раз! - гордо сказал Севастьян, наполняя чашки. - Наш напиток! Я его для крепости еще на жгучем перце настаиваю.
Выпили. Севастьян взял головку лука, откусил добрую половину и сочно захрустел. Охотник глядел на него затуманившимся взором, морщился. Сомнения, тревоги, разочарование - все куда-то исчезло, испарилось. Дышать стало тяжелее, но и спокойнее. Пропали лишние мысли, оставив ощущение уверенности, всепонимания.
- Да, Севастьян, - сказал Охотник уверенно, - лишь то хорошо, что хорошо кончается. И не иначе.
Севастьян охотно подтвердил и налил снова.
- Скажу я тебе, Севастьян, вот что, - продолжал Охотник, жуя. - Легче тому живется, на чьей стороне правда. У кого совесть чиста. А тому, кто чужую совесть от грехов очищает, тому еще легче...
- Ты это про попов, что ли?
- Не-е-ет, при чем тут попы! - покривился Охотник. - Святые отцы только душу очищают, а я - тело. От греха избавляю.
- Как это? - удивился Севастьян.
Охотник понял, что сболтнул лишнее.
- Да так! - усмехнулся. - За других кровь лью. Ты вот, к примеру, за просто так убить можешь?
- Кого убить? - испугался Севастьян.
- Ну, положим, кабана.
- За просто так? Нет, зачем же? Что ж я, изверг какой! Ежели для пищи, так оно, конечно... Да и то, иной раз так рука дрожит, что и ножа не удержишь. Вот! - непонятно чему обрадовался Охотник. - Не можешь. А я могу. Многие благородные господа, а еще более дамы, так нос и воротят: "Фу, содрать со зверя шкуру! Как это жестоко, да как некрасиво!" Но шкурками с "жестоко убитых зверей" пользуются - на стены цепляют, на шею вешают... Вот и выходит, что есть такой дурак - Охотник, который за них в крови пачкается, да жестокости творит. На себя их грехи берет.