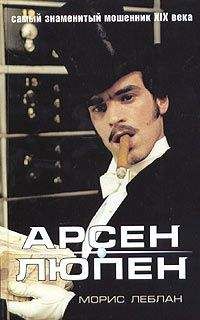Владимир Голубев - Купол
Я долго стоял около шара. Его ржавое притяжение не отпускало меня. Я раньше не видел его так близко. Это было чистой воды издевательство. Простое и гениальное. Нам показали, что наши технологии не стоят ничего против наших же тупо использованных материалов. Когда шары перестали летать и упокоились по лесам и полям, один из них с большим трудом и большими предосторожностями разрезали на части. Бригада «имени Шуры Бала-ганова» трудилась почти три недели. Шар оказался сплошной отливкой обыкновеннейшей стали марки «три». Причем отливкой не сильно качественной: в шаре оказалось множество мелких раковин, трещин, разных несгоревших примесей, песка и камешков. Словно его делали нарочито кое-как, будто мы недостойны лучшей демонстрации, будто для нас, недоразвитых, и так сойдет. И, когда дефекты были обнаружены, никто не злорадствовал по этому поводу. Мол, мы и получше можем… Потому что ОНИ сумели заставить шары летать. Суставчатые лапы в полете двигались лениво, слишком лениво и медленно. Непонятно, как и для чего они вообще двигались. И уж, конечно, ни о какой аэродинамике речи не шло при таком соотношении размеров и массы.
Нет, это было издевательством, потому что шары были пассивными куклами, не имеющими внутри себя ничего, но ведомыми могучим кукловодом. Нам показали кукольный спектакль. Вот видите, как бы говорили нам, мы тоже чем-то машем для того, чтобы летать. Так показывают детям бабу Ягу, летящую в ступе. Дети верят. Но мы-то не дети. По крайней мере, мы так считаем…
Я почувствовал бессилие и беспомощность. И обиду. И злость. Ведь ОНИ легко бы могли… А мы ничего бы не смогли… И те вопросы, что закрючили всю планету, не решены и сейчас: кто? как? зачем?
И еще это видение, которое я не могу забыть с самого детства…
Зачем я сюда приехал? Как говорится, хороший вопрос. Вообще-то, если честно, не знаю… Ностальгия по родным местам — да, но не только. Что-то большее, душевно-глубинное. Наверное, я пришел на свидание к Ней. Глупо и безнадежно. Но… сокровенное нельзя рассказать никому. Нельзя рассказать другу, он не поймет. В лучшем случае фальшиво посочувствует. Нельзя рассказать жене, самому близкому человеку: она, без сомнения, станет ревновать, хотя это глупо, ведь предмет моих душевных волнений не является реальной женщиной, это символ, недостижимая мечта, чистая выдумка. Но жена все равно будет ревновать — женская природа непреодолима. Сокровенное можно доверить лишь мертвым черным закорючкам на мертвой белой бумаге.
Мое бесконечно далекое детство прошло в Затинске. Тогда, в крошечном и неустроенном поселке, почти деревне, не было еще электричества. Трудно поверить, но первые три класса я учился при керосиновой лампе. Какие развлечения были у мальчишек? Летом купались в Тинке, ловили мелких ершей, играли в «вой-нушку» и лапту, ярки да прятки. Ходили в лесок курить украденные у отца папиросы. Помогали маме по хозяйству. Крупной скотины здесь никто не держал, но для утей-гусей местность очень располагала. Зимой ходили с родителями на болота за клюквой.
Жизнь потихоньку шла вперед. И вот уже приковыляли к нам откуда-то, со стороны районного города Тронска, высокие мачты с проводами. В домах появился свет. Было, как водится, много разговоров про «лампочку Ильича», про заботу партии… Но главное чудо пришло через несколько лет. В поселке построили клуб с кинозалом. Картины привозили редко, каждая была событием. И вот однажды, когда мой возраст подошел к тому рубежу, когда вдруг понимаешь, что девочки — не просто подружки по играм, а нечто более значительное, когда начинаешь думать о них по-другому, когда на уроке больше украдкой смотришь на них, а не на доску, я увидел Ее. И был сражен навеки.
Тогда привезли фильм «Человек-амфибия». Для нас, детей глухих болот, распахнулось окно. Мы своими глазами увидели другой мир. Яркий, красивый, романтичный и тревожный. А Гуттиэре… В нее разом влюбились все мальчишки, да и взрослые мужики, думаю, тоже. Из кинозала я вышел в состоянии полного обалдения. Фильм перевернул мне душу, я перестал быть прежним за-тинским мальчишкой. Я влюбился в первый раз. И хотя предмет моей любви был недоступен, как висящая в небе огромная луна, я ничего не мог поделать. Я представлял себя Ихтиандром, хотел немедленно попробовать плавать, как он, благородно, изгибаясь всем телом, а не примитивными «сажёнками», как мы плавали в Тинке, но была уже поздняя осень. Я жутко хотел иметь костюм из крупной блестящей чешуи, как у него. И нож, привязанный к ноге, для защиты от злобных акул. Я бы совершил для Нее множество подвигов, убил бы сотню акул… Я думал о Гуттиэре и днем, и ночью, выпрашивал у отца пятаки, чтобы посмотреть фильм, еще и еще, благо новые картины привозили редко и каждую крутили до изнеможения…
Однажды я случайно увидел, как после окончания сеанса из будки киномеханика выпорхнула женская фигура, облаченная в синюю накидку с капюшоном. Я видел ее со спины, и меня удивили ее легкие туфельки на каблуках — это в нашей-то осенней грязи! Мысль была проста и безумна — это она, моя Гуттиэре! Петька, наш киномеханик, выпускает ее после фильма, где она играет сама себя, и она уходит отдыхать в неведомые туманные дали!
Теперь мне были не нужны тяжелые монетки по пять копеек, чтобы увидеть Ее. Я просто дожидался окончания сеанса и прятался в мокрых кустах сзади клуба; будка киномеханика имела две двери: одна выходила в зал, а другая — на улицу. Конечно, Гуттиэре не пойдет через зал, где ее увидят; не зря же она носит длинную синюю накидку с капюшоном! Мои ожидания каждый раз оправдывались.
Однажды я вылез из своего укрытия и пошел за ней. Нет, нет, я не хотел шпионить и выяснять, куда она идет и где живет. Я просто хотел видеть ее подольше. Ведь она была светом в моем окошке, самым ярким впечатлением в нашем зачуханном болотном поселке. Я шел за ней, глядя на ее туфельки, на которые почему-то совсем не налипала грязь. Было темно, и я шел за ней, держась довольно близко. И вдруг…
Она внезапно остановилась, я чуть не налетел на нее. Гуттиэре повернулась ко мне лицом и плавным движением откинула капюшон. Ее черные волосы легли на плечи. Ее бледное лицо было обращено ко мне. Она была так прекрасна и так печальна! Она присела и посмотрела на меня снизу вверх. Складки ее плаща легли в лужу, но грязь не прилипала к ее плащу, как будто он был сделан из воска. На ее шее красовалось жемчужное ожерелье. Мелкие капли осеннего дождя падали ей на лицо, казалось, будто она недавно плакала. Она быстро заговорила на непонятном языке. В мое сознание проникали лишь отдельные слова: Ихтиандр, дон Педро Зурита, амиго… Она умоляюще смотрела на меня, повторяя «амиго, амиго…». Я стоял, как столб, не в силах вымолвить ни слова. Гуттиэре встала — и вдруг порывисто поцеловала меня в щеку. Ее губы были мягкие и теплые. От нее чудесно пахло. Должно быть, так пахнет море или даже само счастье. Я хотел сказать, что люблю ее, только ее, и никого больше. Не артистку Вертинскую, а ее, Гуттиэре. И всегда буду любить только ее, и совершать подвиги ради нее. Но мой рот как будто склеился.