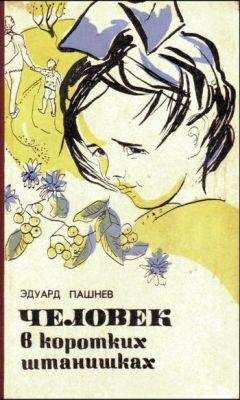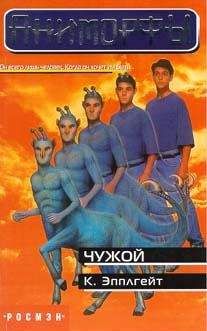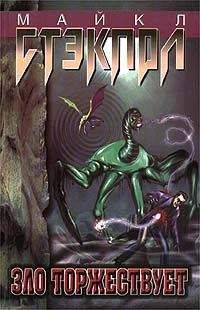Евгений Сыч - Ангел гибели
— Что же ты к людям не выйдешь? — спросила женщина. — Там война. Там хоть кого не то что изобьют, убить могут. Что те, что другие, — и посмотрела выжидающе.
— Нельзя мне к людям, — потупился У. — Знают они меня, что те, что другие.
— Нельзя? Но если знают, тем более убьют, что те, что другие.
— Нет, не того я боюсь. Видишь ли, правитель пообещал, если еще попадусь, в тюрьму посадить, в камеру-одиночку.
— Зачем?
— Чтоб людей не смущал. Почему-то всегда среди людей находятся такие, которые следуют моему примеру. Ходят и провозглашают: «Бейте меня! Не боюсь я побоев!» Странно даже. Им-то побои не на пользу, а во вред. А для правительства такие люди — нож острый. Что им делать с человеком, который боли не боится? Без страха — какая же власть?
— Да, — подумала вслух женщина. — А ты не боишься? Не боишься, что я все про тебя узнала и всем расскажу?
— А ты? Не боишься, что я сейчас тебе голову сверну и доносить некому будет?
— Не свернешь.
— А вдруг?
— Не свернешь. У махнул рукой:
— И верно, не сверну. Нужна мне твоя голова… тоже, украшение, на стенку ее вешать? Так ты уходишь или остаешься? Иди, рассказывай, кому хочешь и что хочешь. Обо мне, знаешь ли, чего только ни рассказывали.
— Я останусь, сын человеческий, — сказала женщина, — не гони меня.
Они вернулись с дороги в лес. В гору.
Горы и лес человеку почему-то враждебны. Вот взять лес: колыбель человечества, — а люди его не любят. Стесняются своей колыбели. Вспоминают, конечно, время от времени, да это и приятно вспомнить, тем более, что сохранились разве что две-три картинки, статичные и неточные, как, фотографии, подретушированные неуверенной рукой памяти. Это не те воспоминания. Другие, прочие, отсечены, чтоб не мешали в пути, когда нужно работать, спешить и не отставать, а выйдет — так перегнать, обойти, прижать к бортику, оттолкнуть в конце концов, чтобы выбраться на простор, — и, может быть, это-то как раз продиктовано кодом памяти, лесной колыбелью. Люди не любят своей колыбели, стыдятся, как стыдятся подростки своей старой матери, приехавшей из родной деревни в школу-интернат: тут и радость встречи, и страх показаться слабым, и неловкость за обнаженные корни родства, — помните? О деревенской старушке-маме охотнее всего вспоминают неопровержимо доказавшие свою силу правители и генералы. А в лес уходят те, кому признание людей уже ни к чему — мудрецы, уставшие от человеческой суеты, тяготеющие к истокам.
Вот море люди любят. Море не воспринимают они за собственные пеленки, оно из слишком далекого прошлого, от которого даже картинок не осталось. А через лес люди прокладывают дороги. Дороги — их территория, здесь они свои. С дорог в лес почти не сходят, не углубляются. Люди не любят чувствовать себя неуверенно. Даже тот, кто кидается в лес, спасаясь от погони, и то, углубившись совсем немного, старается двигаться параллельно дороге, не теряя ориентиров. Но так же поступают и преследователи! И именно на этой, близкой к дороге, трассе беглеца хватают чаще всего. Сам дурак, — скажет он себе лотом. — Надо было глубже в лес забираться. Но вспомнит: нет, не могу, не смог бы, страшно. Страшно.
Страшное скучное время работы и послушания.
Время диктует: стройте дороги, бейте тоннели, мосты перебросьте, засыпьте болота — будете ездить навстречу друг другу.
Время диктует: шлагбаумы ставьте, разрушьте мосты и засыпьте тоннели.
Люди привыкли, люди покорны. Строят, ломают, заново строят. Где ж этот рупор, через который время диктует людям приказы?
— Ненавижу, ненавижу, ненавижу, — повторяла женщина. Эти слова стали припевом к ее жизни.
— Да оставь ты, — возражал У.
— А ты? Ты, что ли, людей любишь? Ты их больше, чем я, ненавидишь. Больше, чем любой другой.
— Ненавижу? Нет. Если бы я их ненавидел, то убивал бы, пожалуй.
— Убивать ты не можешь, — возражала в свой черед женщина.
— Не могу? Хотя, верно, не могу, не хочу — точнее.
— Вот! И оттого ненавидишь еще сильней.
— Да что ты? С чего ты взяла? Что в них, в людях, такого уж? Люди как люди. Я к ним, если хочешь знать, очень спокойно отношусь. Вот ты говоришь: «Плохо!», а когда хорошо было? Я, знаешь ли, долго живу, но такого времени не упомню.
Вокруг пещеры стоял лес. Лес рос на горе. У ее подножья плескалось море.
III
У ловил осьминогов. Вчера он опустил несколько удобных домиков-ловушек в залив и теперь доставал одну из них.
— Интересно, — приговаривал У. — Интересно, знают ли осьминоги, что домики эти — ловушки? Наверное, догадываются все-таки. А ведь лезут! Потому что удобные домики. Удобства ради в любую ловушку полезешь. — У вытряхнул пойманного осьминога, и моллюск забарахтался в песке. У посмотрел на него задумчиво.
— Я тебе, мое головобогое, голову и бога оторву, — пообещал он возмущенному осьминогу.
Осьминог молча выгибал щупальца, на которых присоски сидели густо, как пуговицы на ширинке.
— К «оборву» рифма, стало быть, «в траву», — размышлял У, — а какая тут трава на берегу? Песок да галька. Я вас приглашаю, — он проткнул осьминога острой палкой, и из того брызнули густые чернила, — к себе на обед.
Остальные ловушки У трогать не стал.
— Если забрались, пускай сидят, — привычно сам с собой думал У, забираясь на кручу. — Пускай пользуются жилплощадью за мой, стало быть, счет. Пока не понадобятся. А как же иначе? Дашь на дашь.
Дома у него оказались гости. На пне-табуретке сидел сынок, ненаглядный и единственный. Размахивая могучими ручищами, он жарко толковал что-то женщине. Та слушала чуть насмешливо, но заинтересованно.
— Пришел? — спросил У.
Сын осекся, посмотрел на У исподлобья, нехотя подтвердил:
— Пришел.
— Опять побили? — приветливо поинтересовался У.
— А ты бы не отказался, чтобы тебя побили? — ушел ют прямого ответа сын.
— Да я бы со всей душой, — охотно согласился У. — А тебе как-то не к лицу. Разбойник все-таки. Битый разбойник — это противоестественно, не находишь?
— Не разбойник, а экстремист, — поправил сын.
— Тем более, — со вкусом сказал У, — тем более. Он посмотрел на сына повнимательнее и вздохнул.
— Похудел ты, — сообщил печально. — Я вот осьминога принес, сейчас жарить будем.
Сын поднялся.
— У меня тень поблизости, — деловито сказал он. — Я сейчас выпить принесу.
— Скажи, пожалуйста, — восхитился У, — а я никого не заметил.
Сына звали Я.
Сварили рис, зажарили осьминога, выпили.