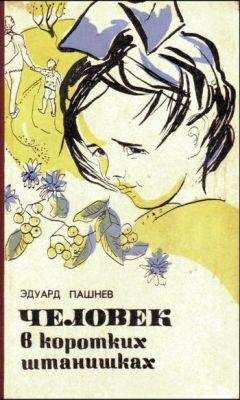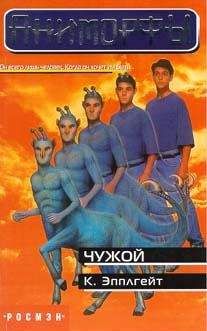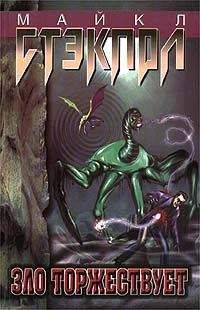Евгений Сыч - Ангел гибели
У очень хорошо умел вызывать людей на драку. Если было двое или больше, то обычно оказывалось достаточно оскорбить их в лучших чувствах, предварительно выяснив по возможности эти самые чувства. Стоит проехаться по идеалам — и непременно побьют. Иногда достаточно воспротивиться — это если требуют чего-либо — и тут уж побьют, как правило, не вынесут.
Но один на один эта тактика непригодна. Одни па один человек редко воздевает свои идеалы настолько, чтобы нарываться с побоями на здорового мужика. Одиночка обычно начинает думать и думает примерно следующее: ты один и я один, ты думаешь так, я — по другому, ну и думай, как тебе нравится, и иди своей дорогой, а я пойду своей. Одиночку надежнее испугать, чем разозлить, поскольку редко злится человек, не чувствуя поддержки. А со страху — поколотит лучшим образом, а то еще и убить попытается, чтоб больше не пугаться.
Когда женщина поздоровела, стал У пугать ее, туманно приговаривая чепуху, а потом и набрасываясь с неизвестными, но безусловно гнусными намерениями, позаботившись заранее, чтоб попалась ей под руку тяжелая ременная плеть или что другое, по сути соответствующее. Он являлся ей драконом и мышью, горой и болотом, дождем и засухой — и всегда бывал бит. Потом У уползал отлеживаться, набирался сил. И являлся снова. Он вызывал в ней последовательно страх, гнев, отвращение, насмешку. В конце концов вызвал понимание и напугался. У не любил, когда его понимали.
— Слышала я об одном таком, — сказала женщина, — он все любовницу свою просил, чтоб кнутом стегала. Ты что — из этих?
— Нет, — передернуло У. — То извращение какое-то. Ты ведь мне, слава богу, не любовница.
— Да какая разница? — устало спросила женщина. — В чем разница? Но вот что скажи: ты ведь любишь, когда тебя бьют? Нравится тебе это? Нравится, — сама себе ответила она. — Для того и держишь меня здесь, для того и мучаешь. Или скажешь — вправду справиться не можешь? Не верю я, вон ты какой здоровый. Больше пальцем не трону — надоело. А будешь приставать, повешусь.
— Повешусь, повешусь, — забормотал У.
— Надоел ты мне, — сказала женщина.
— Знаешь, подруга, — решился тогда У, — мотай-ка ты отсюда. На дорогу я тебя выведу.
— А сам что? Другую какую поймаешь, чтоб утешала?
— Ну это уж дело не твое. Пошли. Пошли.
Дорогой У молчал. Злился. Переживал, что раскусила она его, поняла хоть не всю правду, по часть правды, пусть в меру своей испорченности, как говорится, но поняла же! Оттого и тошно было, и не только оттого. Ему ведь действительно нужно быть битым, а этого не объяснишь. Не прихоть это, не извращение, не сдвиг по фазе, а жизненная необходимость. «Теперь пойдет трепать по-бабьи, — думал У с неприязнью. — Шею бы ей по-хорошему свернуть следовало, чтоб разговоров меньше. Сунуть в болото — болото примет». А хотя — ему ли разговоров бояться? Небылицей больше, небылицей меньше. Сколько о нем слухов ходит!
Вокруг стоял лес.
У всегда шел в лес, как в воду, как к воде после долгой жажды. А правда, если за всю жизнь в воздухе счастья так и не встретилось, может, оно — в воде? Если в теплом складывается плохо, может, истина в прохладном? Если плохо в пустоте, то, кто знает, не отказывайтесь заранее, — вдруг в плотном будет хорошо? Конечно, на воздухе легче дышится, но в воде по крайней мере есть от чего оттолкнуться, чувствуешь сопротивление среды — зато хоть вперед движешься. Дай бог такой среды, которую можно отшвыривать в поднятые лица остальных и слышать сперва негодующее: «Отрывается!», затем слаженный одобрительный хор: «Идет, не сбавляет!» — а затем, когда разрыв с ними уже не будет иметь значения, когда справа и слева останутся лишь те, кто стартовал раньше, а впереди — одни чемпионы, снизу воспоют в согласии и великолепии: «Выбился!». И с этого момента ты станешь другим, ты будешь одним из тех, что впереди. Сильным.
У ходил по лесу легко, чем слегка гордился и даже жалел время от времени, что некому это его умение отметить и оценить. Женщина шла за ним молча, вроде пыталась запомнить путь, хотя для человека из долины, в лесу не жившего и к лесу непривычного, это невозможно, абсолютно невозможно. У невозможность эту понимал и не тревожился, а только усмехался усмешкой специалиста: пусть оглядывается, пусть запоминает.
Он вывел ее на дорогу, пустую от людей, знать, час такой выпал.
— Ну вот, — показал У. — Направо к рыбакам, налево — к огородникам, иди. Дорога выведет.
Сам повернулся и пошел назад в лес.
— Постой, — окликнула его женщина. — Подожди! Как звать тебя?
У остановился. Уходить ему, по правде говоря, не хотелось. Злость на женщину кончилась, пока шли. Лес легко вбирает человеческие эмоции, настраивает на свой, лесной лад. «Сегодня лес в миролюбивом и несколько даже философском расположении духа», — подумал У. «Что я на нее так взъелся? — подумал он еще. — Ну, дура и дура, на то она и баба. Может, ужились бы».
— Имя мое, — сказал он, чуть торжественно, — мало что скажет. Отшельник я. Изверг рода человеческого, чтоб понятней.
— Скажи проще, — улыбнулась женщина, — сын человеческий.
— Ну, иди, — махнул рукой У.
— Идти мне некуда.
— Ты же бежала куда-то, — не поверил У.
— Не куда-то бежала, а откуда.
— Раз оттуда убежала, значит, знала куда.
— Сгорел мой дом.
У посмотрел на нее внимательно.
— Ты что, остаться у меня хочешь?
— Нельзя? — спросила женщина.
— Почему? Лес прокормит, и море рядом. Крестьяне мне рис приносят. Живи.
Она тоже посмотрела на него. Словно спросила.
— Мне нужно, чтобы кто-то меня бил, понимаешь? Такое условие. Не прихоть это. Иначе я старею.
— А так не стареешь?
— Нет, — признался У. — Я вообще-то давно живу, и ничего. Нужно только, чтоб меня били, чтоб что-то там внутри у меня отмирало и восстанавливалось. Иногда так изобьют, что кажется — насмерть, а потом очнусь — весь новый.
— Что же ты к людям не выйдешь? — спросила женщина. — Там война. Там хоть кого не то что изобьют, убить могут. Что те, что другие, — и посмотрела выжидающе.
— Нельзя мне к людям, — потупился У. — Знают они меня, что те, что другие.
— Нельзя? Но если знают, тем более убьют, что те, что другие.
— Нет, не того я боюсь. Видишь ли, правитель пообещал, если еще попадусь, в тюрьму посадить, в камеру-одиночку.
— Зачем?
— Чтоб людей не смущал. Почему-то всегда среди людей находятся такие, которые следуют моему примеру. Ходят и провозглашают: «Бейте меня! Не боюсь я побоев!» Странно даже. Им-то побои не на пользу, а во вред. А для правительства такие люди — нож острый. Что им делать с человеком, который боли не боится? Без страха — какая же власть?