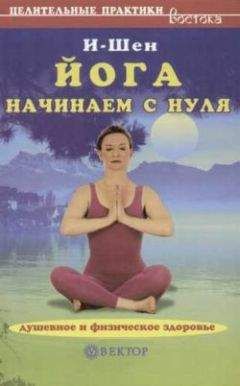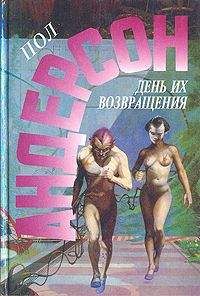Виталий Владимиров - Колония
Прадед - портной. Вот и все, что я знаю о нем теперь.
Дед - морской унтер-офицер, железнодорожный слесарь высокой квалификации. Детей никогда не бил. Бездельничающим его не видели. Не дотянул до ста полтора месяца. Помню, как в один год отмечали деду девяносто, отцу шестьдесят и мне тридцать. Бабушку ласково звал Лелькой, никогда с ней не ругался. По воскресеньям Лелька пекла пышки, и обед был мясной. За стол садились муж, три сына и две дочери. Жили в Моршанске на Застранке (за той стороной), которую переименовали в Комсомольскую. На зиму мочили яблоки, солили огурцы, к новому году откармливали поросенка.
Младший сын - летчик тяжелого бомбардировщика - погиб в начале войны. Бабушка не перенесла смерти любимца.
Старший прошел через всю войну, вернулся невредимым, но погиб в автокатастрофе. Как партийный работник он был направлен в Латвию. "Лесные братья" захватили его сына заложником, но сын чудом остался жив.
Тетки вышли замуж и прожили свою жизнь одна в Москве, другая - в Моршанске.
Отец окончил девятилетку с двухгодичным педагогическим уклоном и два года работал учителем, а потом директором школы в Чулымском районе Новосибирской области, затем ректором культармейского университета в Москве. Но первая пятилетка нуждалась в инженерах, и отец закончил Институт стали. Его направили на Ижорский завод, который входил в наркомат судостроительной промышленности, где он стал специалистом по корабельной и танковой броне. После войны - Москва, минсудпром, начальник отдела, зам начальника главка. За атомный ледокол "Ленин", подводные лодки и другие дела получил три ордена и четыре медали. Кандидат технических наук. Персональный пенсионер республиканского значения.
Вот и все.
Нет, было еще четыре листочка.
Схема - генеалогическое дерево нашей семьи, начиная с деда.
Распорядок дня в последние годы жизни: подъем, зарядка, завтрак, походы по магазинам, телевизор.
Два последних листа - попытка исповеди и график.
"Моя работа всегда была напряженной и трудной, но интересной. До шестидесяти семи лет, когда я вышел на пенсию. И хотя я продолжаю работать в скромной должности старшего научного сотрудника в научно-исследовательском институте, но морально и психологически с трудом переношу резкую смену темпа моей жизни. Раньше было ощущение необходимости высокого и физического и духовного тонуса, чувство ответственности за свое дело и, что самое главное, я видел уважение к себе и крупных начальников, и подчиненных, и хороших, и даже плохих людей.
Пожалуй, есть и моя немалая доля вины, что растерял старые знакомства, а новых товарищей не завел. Получилась самоизоляция, одиночество. Его особенно резко я ощутил, когда заболел, и никто по прежней работе не навестил меня. Пока не поздно, надо восстановить утраченное. Сложно, но надо. Нужно чувствовать ежедневно, что ты полезен окружающим. Иначе смерть."
График был необычный. Математические построения изображали взлеты и падения любви, уважения и взаимопонимания в течение жизни. В тридцать лет для отца превыше всего была красная линия любви, к восьмидесяти сошедшая до нуля. На закате жизни важнее всего была голубая линия взаимопонимания и черная - уважения.
Все три чувства с годами шли по нисходящей, отец все больше ощущал себя одиноким, хотя никогда мне об этом не говорил.
Прочитав записи, я осознал, что одиночество отца это одиночество всех старых людей перед смертью, и оно страшнее моего одиночества в больнице, оно страшнее одиночества в другом городе, далеко от дома, оно страшнее одиночества в больнице другого города. Страшнее такого одиночества только одиночество старого человека в чужой стране.
Я гордился своим отцом, когда мне было десять, я снисходительно внимал ему в двадцать лет, я зауважал и оценил его в тридцать, а позже с каждым днем росла к нему нежность. Особенно в те моменты, когда мать по-женски "пилила" его за какую-нибудь ерунду, а он вспыхивал, как юноша, и гневался: "Сколько раз я просил тебя не позорить меня в присутствии других!" Я гладил его по руке, и он постепенно успокаивался.
Я не видел отца мертвым, не видел его похорон, он остался в памяти моей жизнерадостным и бодрым. Ушел в небытие и нет его. И никогда не будет. И все это сказки о загробной жизни, об инкарнациях, о чем так убежденно толковал Ричи. Впрочем, и он был настолько потрясен смертью своего друга, молодого человека, который умер на его руках, что заколебался в вере своей.
Смерть моего отца осталась в памяти моего сына. Спасибо ему, он проводил деда в последний путь. Он мне все рассказал, когда, наконец, мы с Аленой приехали в Москву.
В отпуск.
В последний.
Страна готовилась к первым выборам депутатов. К первому съезду. К делу всенародному. Об этом и написался рассказ с таким же названием - "Дело всенародное".
Глава сорок вторая
Грязная весенняя Москва, хмурое небо с редкими проблесками слепого солнца, бугристый асфальт мостовых в морщинах трещин под слоем бурой жижи, потоки замызганных машин, черные надолбы наросшего за зиму нетающего льда, рябые от мелкого мусора озябшие газоны, разбросанные окурки на троллейбусных и автобусных остановках и толпа - торопящаяся, неулыбчивая, глядящая настороженно из-подлобья, готовая огрызнуться и мгновенно затеять свару - вся эта картина свернулась в трубку, уехала в прошлое для Евгения Горина вместе с фирменным поездом "Кавказ".
Москва обрекла Горина на долгое прощание - состав не подали вовремя, к полуночи, и Горину пришлось до половины третьего утра торчать у стенки в подземном переходе Курского вокзала, набитом отъезжающими, где-то между группой солдат под командой молодого лейтенанта и двумя мужчинами спортивного типа, стоявшими, как часовые, по бокам картонного ящика с японским телевизором "Панасоник". Горин сильно продрог, что ему было совсем ни к чему, надсадно кашлял и еле дождался того момента, когда можно было наконец-то расслабиться, согреваясь, на верхней полке купе под размеренный перестук колес.
Ехали долго, поезд полз все медленнее и опоздание составляло три, а позже пять часов против расписания. Поначалу этоустраивало Горина - по графику поезд прибывал около семи утра, но, по мере роста разрыва во времени, вызывало беспокойство - пропадал целый день лечения. Деваться, с другой стороны, все равно некуда, успокаивал себя Горин и практически не вылезал из постели, наверстывая отнятые бессонницей и лихорадочным темпом жизни часы отдыха.
К выводу, что деваться некуда не только в прямом, но и переносном смысле, особенно с другой стороны, Горин приходил еще и читая один из толстых журналов, выписанных вскладчину сотрудниками его отдела на радостях, сразу после того, как открыли ограниченную было подписку, что праздновалось как чуть ли не решающая победа на пути демократизации всего строя. Периодику читал он последние три года взахлеб, поначалу с оглядкой, как до того самиздат, восторгаясь смелостью сказанного или горько переживая и ужасаясь обнажившимся язвам социализма, а потом насытился, устал от беспредельного, ненаказуемого, неисправимого безобразия и стал выделять из бурного потока информации исторические очерки, мемуары, запрещенную ранее литературу и статьи по экономике. Каждая острая публикация возрождала надежду, что выход на свет так долго скрываемой истины заставит наконец-то опомниться стоящих у кормила власти, а может быть даже не столько их, сколько конкретных "хозяев" республик, краев, областей, районов, городов, поселков, деревень. Однако ничего радикального не происходило - система, содрогнувшись, как вулкан, извергала лаву, которая, застыв, становилась частью горы. Выходили верные законы, издавались правильные указы, принимались новые постановления... а жизнь в обществе, созданного великими умами прошлого по модели "все для блага человека, все во имя человека", продолжала идти, ежедневно реализуя совершенно иной принцип - "каждый обязан страдать сегодня во имя общего блага завтра". В одном телевизионном диспуте мелькнуло выражение "административная революция" и это было по сути верно - сам себе подотчетный, самому себе ничем не обязанный строй тужился сам себя революционно перестроить. Все равно здравый смысл никак не мог победить - если делать то, что целесообразно и экономически, и экологически, и по-гуманному, то сразу же ненужным и вредным становился административно-командный аппарат - конкуренции он не выдержит, а власть не отдаст, причем частью, винтиками этого аппарата, этой Системы были практически все живущие на шестой части суши.