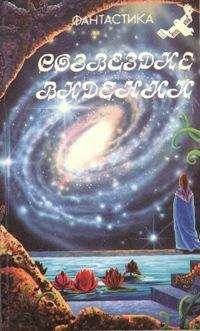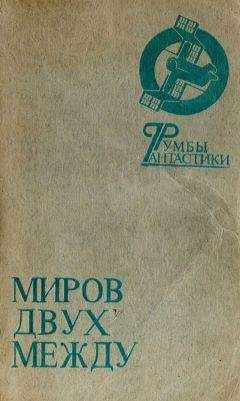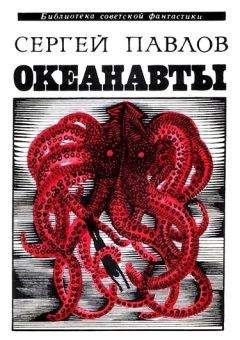Сергей Андреев - Особый контроль (сборник)
— Ну уж нет! Все как есть! — говорит офицер. — И повесят тебя, Балазей, за измену отечеству!
А что? И запросто повесят. Он ведь мало того, что со службы сбежал, так еще и украл секретное трофейное ружье. М-да, тут верная смерть. Разве что…
Подскочил Балазей, заорал:
— Полетел! Полетел! — и пальцем в небо тычет.
Офицер поверил, глянул… А Балазей рванулся, вырвался, в толпу — и сник. Штабс-капитан, осерчав, по-военному свистнул. Солдаты — на свист, а народ — кто куда. Невозможная давка! И тут…
Как только люди в переулки схлынули, так Миколайка на просторе разбежался, крыльями — мах! мах! — и полетел.
Остолбенел народ, шапки снял. Знамение! Один говорит:
— К недороду.
Другой:
— К урожаю. Привычное брожение умов.
А Миколайка все выше и выше летит, ничего не боится. А что? Полведра холодильного средства извел, так теперь хоть на солнце садись!
Балазей средь народа стоит, на товарища смотрит… И стыдно ему! Эх, сколько он над ним смеялся, сколько потешался! А сам кто? Дурак дураком. Вдруг он слышит:
— Стоять! Не дышать! Глаза направо!
И… словно и не было тех долгих вольных лет и словно никогда он не бродил по свету! Стоит Балазей и не дышит, направо косит. Там, справа, солдаты по небу стреляют, а штабс-капитан народу объясняет:
— Нельзя, чтобы в небо летали, запрет. Вам же только позволь, никого на земле не останется. А кто тогда будет налоги платить, государю служить? Р-разойдись!
Не уходят. Стоят и молчат.
А солдатам никак Миколайку не сбить, и он все выше, выше в небо забирается. Вот штабс-капитан и сказал:
— Сейчас мы этого злодея запросто подстрелим. Есть у нас для этого дела специально натасканный бравый солдат, он за меткую пулю в фельдфебели выйдет. Эй, Балазей!
И — сам не свой Балазей! Ружьишко с плеча срывает и преданно ждет. Штабс-капитан командует:
— Ступи! Фитиль с курка! Фитиль на место! Пулю вбей! Порох на полку!
И Балазей как неживой команды справно, дельно, ловко выполняет и душистый приклад к плечу приставляет. Руки белые, пальцы дрожат, оторваться желают.
— Пали!
Закрыл глаза, повел стволом куда подал ее и стрельнул!
Открыл…
Ан завертелся уже Миколайка, в летнем небе осенним листом закружился…
Тяжко охнул народ, зароптал. Балазей ружье в песок отбросил, в небо смотрит и слез не стыдится. Офицер:
— А подать ему водки! Фельдфебелю!
Все молчат. Только вдруг слышно в толпе:
— Улетит!.. Вот хотя б улетел!
А глянули — точно! Миколайка вновь крыльями машет, и хоть все ниже летит, но видно, что за город вытянет. А там за огороды, за поле, за речку…
Офицер:
— Взять! За мной! — и первым побежал.
И солдаты за ним — так, с полсотни. А Балазей… и он туда же… Выбежали в поле — там бабы жито жали — закричали:
— К-куда?!
— А туда, — говорят, — в осоку залетел.
Там возле речки болото. Камыш, осока — во такие и выше. Гиблое место, тут разве найти? Но они по-военному, цепью пошли.
Балазей — тот по краю, по берегу речки идет. Думает: вот бы неловко ступить и не выступить. Вдруг…
Миколайка! Лежит. Щеки белые, губы красные — потому как в крови, — грудь навылет пробита. И крылья в мелкий щеп изломаны, изодраны. Тонет в болоте, моргает, молчит.
Стоит Балазей, подойти не решается. Миколайка к нему повернулся, едва улыбнулся и шепчет:
— А крылья хорошие… были. И мазь… холодит. Лепота наверху, красота — потом прислушался, спросил:
— Кто это ходит?
— Солдаты, — отвечает Балазей, а сам уже не видит ничего, все плывет у него пред глазами.
Миколайка:
— Ох, сердце горит! Не могу! Остуди меня в речке.
Балазей, глаза утерши, подошел.
— Прости, — говорит.
— За что? Я ж сам прошу, — и зажмурил глаза Миколайка.
Взял Балазей товарища за плечи, толкнул — и тот пузырями на дно. Вместе с крыльями. Тихо. Стоит Балазей, в речку смотрит и думает… Нет. Вдруг он слышит — солдаты! Все ближе и ближе. У Балазея сразу слезы высохли, ум прояснился. Вскричал:
— Держи его! Держи! — и паш-шел бежать, камышом трещать!
Бежал, бежал, споткнулся и упал, чуть сам не утонул, а все кричит!..
Набежали солдаты, при них офицер, говорят:
— Что за шум?
— Улетел! Вот так вот, низенько, по-над самою речкою и улетел!
Офицер его р-раз! — по зубам.
— Врешь! — кричит. — Не было!
— Было!
Стали его сапогами топтать и прикладами бить, ну а он все равно:
— Улетел! Улетел!
Били его, не жалели, а после устали, связали и повели на скорый суд. Полем шли — он молчал, а как вышли на площадь, опять заорал:
— Не убили его! Улетел! Он такую машину придумал! Он солнце потрогать хотел!
Хотели Балазею двадцать пять одинокого дать, но он и на суде от своего не отступился.
— Миколайка, — кричал, — не колдун! Он машину придумал, чтобы людям летать научиться! Всем, без разбору! А все оттого, что голову он не для шапки имел!
Заткнули рот. Сказали:
— И ты, Балазей, голову не для шапки, а для плахи, для топора имеешь.
И так оно и вышло, голуби мои. Тем Балазея и помянем.
Василий Головачев
ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
ГЛАВА 1
Игра
В мягкой фиолетовой полутьме ее лицо словно светилось изнутри розовым светом, и необычным казался его овал в черной волне ощутимо тяжелых волос. Странным было лицо, безжизненным, одно выражение застыло на нем — безнадежность. Может быть, темнота глаз скрывала и боль ее, и слезы, но слова были резкими, твердыми и беспощадно чужими. Жестокие слова, от которых замерло движение и холодом повеяло в воздухе… И Филипп сказал почти равнодушно, чтобы прервать этот разговор, чтобы ей было легче, — он еще не понимал до конца, не хотел понимать, что она уходит, — чтобы тяжесть вины — да и была ли она виновата? — легла на двоих, сказал он:
— Хорошо, не будем больше об этом.
Аларика вздохнула облегченно, вскинула голову и снова опустила, теперь уже виноватым движением. И было в это жесте то, чего больше всего не понимал Филипп — неуверенность. Непонятный получался разговор: говорила она прямо и энергично, но неуверенными выглядели жесты, неуверенностью веяло от всей ее короткой речи.
Молчание заполнило комнату: она не знала, что делать дальше, он пытался понять, почему оказался в таком положении. Почему? Десять лет детской дружбы, десятки ссор и примирений с помощью друзей — оба упрямы и горды, — и любовь… Любовь ли? Может, не было любви?
— Прости, — сказал он, с трудом шевеля губами. — Я, наверное, от природы инфантилен и не могу понять, что происходит. Объясни мне наконец, это что — так серьезно?