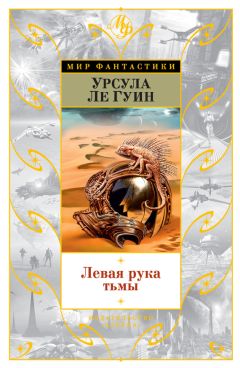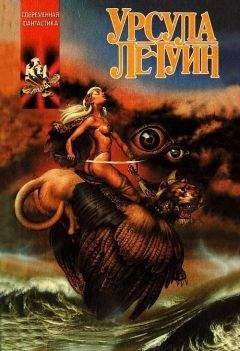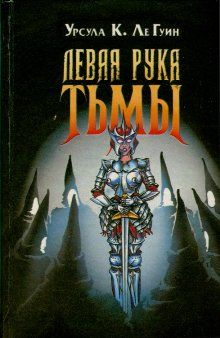Урсула Ле Гуин - Левая рука тьмы
Мы заснули. Я проснулся лишь один раз и слышал, как снег густым покровом опускается на палатку.
С рассветом Эстравен уже был на ногах и готовил завтрак. День обещал быть ярким. Загрузив сани, мы двинулись в путь, едва только солнце упало на верхушки густых кустов, покрывавших долину; Эстравен тащил сани спереди за лямки, а я подталкивал и направлял их сзади. Снег начал подмерзать под нашими ногами. На чистых склонах мы бежали, как собачья упряжка, не сбавляя шага. Весь день мы шли вдоль кромки леса, который граничил с Фермой Пулефен, лес из карликовых, тонких, изогнутых, покрытых сосульками деревьев тора. Мы не рискнули использовать главную дорогу, ведущую к северу, но какое-то время двигались по ее колеям, пока они шли в нужном направлении, а как только лес стал свободен от упавших деревьев и полеска, углубились в него. Несколько раз мы пересекли небольшие долины с крутыми берегами. Вечером указатель расстояния сказал нам, что мы одолели за день двадцать миль, и устали мы куда меньше, чем предыдущей ночью.
У зимы на этой планете есть то преимущество, что стоят светлые дни. Планета лишь на несколько градусов наклонена к плоскости эклиптики, во всяком случае резкой смены времен года не чувствуется, особенно в низких широтах. Время года меняется не в пределах одного полушария, а на всей планете. В конце долгой и медленной орбиты, когда планета входит в афелий и покидает его, солнечной радиации не хватает, чтобы обеспечить резкую смену времен года, холода стоят повсеместно, и поворот к серому лету от бело-фиолетовой зимы совершается постепенно. И если бы не холода, зима, в течение которой погода становится куда более сухой, чем во все остальные месяцы, была бы приятным временем года. Солнце, когда вам доводится увидеть его, стоит высоко в небе, и сияние его не уходит медленно и постепенно, как на полярных шапках земли, где и холод и ночь приходят вместе. На Геттене стоит ясная погода, холодная, ужасная, но яркая.
Уже три дня мы двигались по Тарренпетскому лесу. Наконец, Эстравен решил остановиться пораньше и разбить лагерь, чтобы поохотиться с капканами. Он решил поймать несколько пестри. Они считались одними из самых крупных животных на Зиме, размерами примерно с лису, яйцекладущие, травоядные с прекрасным серым или белым мехом. Он решил, что они пойдут нам и на пропитание, потому что пестри были съедобны. Они массами откочевывали к югу. Они были столь легки на ногу и осторожны, что за время переходов нам попались на глаза лишь два-три из них, но так как каждую прогалину в лесу покрывал мягкий снег, мы видели бесчисленную путаницу следов, все из которых вели к югу. Через пару часов западни Эстравена были полны добычей. Он ободрал шкуру с шести пестри, часть мяса повесил на мороз, а часть решил поджарить нам на ужин. Геттениане — не охотники, потому что тут очень мало дичи, на которую имеет смысл охотиться. Тут нет ни больших хищников, ни крупных травоядных, не считая морских животных. Я никогда раньше не видел, чтобы геттенианин обагрял свои руки кровью.
Эстравен посмотрел на белоснежный мех.
— Для охотников на пестри дел тут не меньше, чем на неделю, — сказал он. — И игра стоит свеч. — Он протянул мне шкуру, чтобы я пощупал ее. Мех был так нежен, мягок и глубок, что пальцы почти не чувствовали его прикосновения. Наши спальные мешки, обувь и капюшоны были подбиты этим же мехом, который был приятен глазу и великолепно сохранял тепло.
— С трудом можно себе представить, — сказал я, — что они годятся и на жаркое.
Эстравен бросил на меня краткий взгляд своих непроницаемых глаз и сказал:
— Нам нужен белок.
И он отбросил обрывки кожи, чтобы всю ночь расси, маленькие свирепые крысо-змеи грызли ее потроха и кости, дочиста вылизывая испятнанный кровью снег.
Он был прав, он был совершенно прав. В пестри было не больше фунта-двух съедобного мяса. Вечером я съел половину своей порции и мог бы есть и дальше, ничего не почувствовав. На следующее утро, когда мы пошли по гористой местности, я чувствовал себя, словно во мне включили дополнительный двигатель.
В этот день мы шли наверх. Приятный снежок кроксет — безветренная погода от 0 до 20 градусов, которая провожала нас через Тарренпет и спасала от возможной погони — сменилась резким падением температуры и дождем. Теперь я начал понимать, почему геттениане жалуются, когда температура зимой поднимается, и радуются, когда она падает. В городе дождь доставляет неприятности; для путников он превращается в катастрофу. Все утро мы тащили сани по отрогам Симбенсина, меся глубокую холодную кашу из пропитанного водой снега. К полудню на крутых склонах снег стал просто исчезать. Хлещущий в лицо дождь, мили грязи, перемешанной с камнями. Мы поставили сани на колеса и двинулись дальше. На колесах было чертовски трудно двигаться, они спотыкались и застревали каждую минуту. Темнота спустилась прежде, чем нам удалось найти какое-то убежище среди скал или пещеру, под покровом которой нам удалось бы поставить палатку, так что, несмотря на все наши старания, мы промокли до нитки. Эстравен сказал, что такая палатка, как у нас, может служить нам надежным убежищем при любой погоде, но при одном условии — она должна оставаться сухой внутри.
— Если вам не удастся просушить свои вещи, за ночь вы потеряете слишком много тепла, и вам не удастся как следует выспаться. Дневного рациона слишком мало, чтобы компенсировать потери. Мы не можем рассчитывать на то, что солнцу удастся высушить вещи, так что мы должны стараться держать их сухими.
Слушая его, я столь же тщательно, как и он, берег палатку от снега и влаги, так что от неизбежной сырости страдали лишь наша еда, наши легкие и кожа, с которой испарялась влага. Но к вечеру, когда мы ставили палатку, все промокло насквозь. Мы едва не лежали на жаровне Чабе и плотно перекусили оставшимся у нас мясом пестри, разогрев его. Указатель расстояния, игнорируя усилия, которые мы прилагали, карабкаясь на склоны, показал, что мы прошли за день всего только девять миль.
— Первый день, что мы прошли меньше намеченного, — сказал я.
Эстравен кивнул и промолчал, разламывая зубами берцовую кость дичи. Он сбросил сырую верхнюю одежду и сидел в рубашке и брюках, с босыми ступнями, распахнув воротник. Мне по-прежнему было слишком холодно, чтобы я осмелился снять плащ, куртку и обувь. Он же сидел себе, высасывая костный мозг, спокойный и собранный, и от него шла уверенность; одна прядь его густых волос упала на лоб, и он отбросил их за плечи, сам того не замечая. Он не был обескуражен. Он весь целиком принадлежал этому миру и знал его.
Первая порция мяса, которую я попробовал, вызвала у меня легкие спазмы в желудке, но ночью они усилились. В угрюмой темноте, в которой был слышен лишь неумолчный стук дождя по пологу палатки, я лежал без сна.