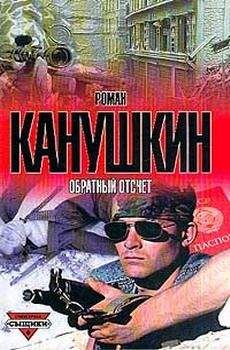Владимир Шибаев - Прощай, Атлантида
А вторая барышня и вовсе – китайская. На этом мы и замолкнем, но некто, полный прозрений, добавит – лет тридцати кукла косоглазая, небось учится в нашем университете, аспирант и стажер уже давно географического факультета, с теплым, полным мелкой дрожащей мимики лицом, неразличимой европеоидом. Спокойная, мягкими точными движениями оправляет синюю глухую блузу и брюки, с маленькими, выращенными в мучениях ступнями, упрятанными в крохотные ботики. Но, – добавит он, приглядевшись. – Скорее всего она офицер, и даже не самый мелкий чин разведки великого восточного друга. Да кто об этом знает? Никто.
Это, по виду, самозабвенная восточная механическая кукла, совершенно сделанная по восхитительному иероглифическому проекту, и в глубине души не знает ни попреков совести, ни воззваний милости, да и души тоже. Железная механическая самозаводная милая девушка. Опасная игрушка.
И только один или два на этом свете и в этой же тьме, которых в городе отродясь не бывало, какие-нибудь дотошные знатоки обрядов империи Цинь и чтецы старых свитков времени Хань, глянув на изящного почти глиняного божка слезящимися от старых свитков глазами, скажут – не кукла. А нежная птица, с трепетной летящей памятью и невесомыми крыльями стояла – или стоит? – медленно поворачивая расписные веера, по журавлиному поджав одну ногу, облаченная в театральный расшитый пестрыми пернатыми халат, на площадке перед старым храмом в провинции Гуанси, где горы нависают прямо над головами синеющих зубами знойных сосен, а пропасть падает от храма влево в глубину веков.
Эта птица ненавидит армию, разведку, команды, строй, чистые кителя и яд, капающий из зашитого в китель шприца. Просто птица в пылающем бирюзовой вечерней зарей небе.
Но вот из подъезда выходит человек. Прозорливец сразу видит – это географ, учитель какой-никакой школы. Выходит он, нерешительно оглядываясь, плетется кое-как, в руке его фибровый чемоданчик, какие еще есть у стариков и старух.
– Нет, – говорит, издали оглядывая вышедшего, одна из сидящих китаянке. – Пока он не поедет. Знает мало. Не волнуйся, скоро вернется.
Китаянка с удивлением взирает на собеседницу. Но та права – помявшись и поплутав с полквартала, географ возвращается и понуро бредет в свою конуру – прожив жизнь, он мало знает, и ему, догадался провидец, нечего сказать в конце пути.
А, если кто много знает, ответьте. Почему эта же особа в этот же день мелькнула в официальных хоромах двух организаций – золоченого адвокатского бюро и мраморного банковского офиса. В одном из них грубый белобрысый солдафон в стальном немнущемся костюме хамски ухватил особу за локоть и нагло потряс ее, сея вокруг маловнятные злобно выдавленные междометия. Но особа с искаженным бешенством лицом хрястнула солдафона ладонью со всей силы по зубам, да так, что тот, потерявшись и опешив, выпустил особу и остался в одиночестве, злобно потирая щеку и щерясь убийственной улыбкой.
А почему, например, в другом месте, в том банке в боковом кабинете практически такой же солдафон в стальном негнущемся сюртуке вдруг бухнется перед этой же особой на колени и будет, передвигаясь по ковру, как по гороху, ползти на чашечках за ней, выпрастывая руки и глупо, театрально закидывая шею. На что получит лишь одно, свистящим шепотом выдавленное благословение: " Пошел ты!".
Гадатели, не роясь в аргументах, сразу пришпилят ситуацию – "страсть", но будут ли правы. Все это смутно, неявно, без свидетелей и последствий. Все снесет мутная игра дней.
Хотя наблюдательные провидцы и заметят в этом же кабинете позже конфузливо кланяющегося стоящему теперь железным монументом солдафону пухленького милицейского майора, что-то пришамкивающего и скалящегося металлической улыбкой. Тут же на коленях будет ползти навстречу орущему солдафону, вздымая корявые руки, пьяный и драный, пахнущий пополам собственной мочой и отрыжкой, похож на Хорькова. И все же получит в виде последнего срока на руки и на грудь под драную куртку одну фотографию рабочего активиста.
Зачем она ему, зачем ему вообще фотографии, этому башибузуку. Пускай бы он высветил в памяти отпечаток своего сына, бесшабашного паренька, и шептался бы с ним, сев в рядок, посетовал на жизнь:
– Вот, – сказал бы, – Димка. Сердце чего то жмет, не сдохну ли?
– Вот, устал уже. Здоровый был, крепкий, как солдатский ремень. По переулкам валандался, свистел. А теперь кожа треснулась, ухо шпана малолетняя по пьяни отшибла, плююсь красным.
– Вот, – добавил бы. – Один ты у меня, Димок. А я все с ножом хожу. Ты бы, хоть, сын, подошел и сказал: гордый я за тебя, папка. Что ты один, не в кодле. Сам себе главный. Егошистый ты, но справедливый. Плохих не любишь. А все плохие. Сел бы рядом, положил бы голову свою белобрысо стриженную мне на плечо, да предложил – бросай, мол, все это к цельной Фене, поедем отсюдова в дальние восточные края, где грибы и земляника ягодицей трясет, и где рыба голавль в жидкой траве по реке бегает.
Но нет. Бредет похожий на Хорькова с подлой фоткой под курткой по блестящим зеркалам луж, ковыряя разбитыми кедами заплаты грязи и спотыкаясь о недопитые банки и недобитые бутылки. Плохо ему, видит провидец. И скажет: знаю я, полз ты перед погонной шпаной на коленках не с того, что трус и боялся, а с того, что пьян и не держит больше земля таких. Хотел бы он, этот бывший сильный, издать небритым кадыком орлиный гордый клекот, да уж осипла вытравленная политурой гортань, хотел бы, как раньше, взобраться на ледяной пригорок или недорубленную стопу сруба, и оттуда страшным рыком и жутким видом пугать пробирающихся мимо, что побираются у жизни и шмыгают скорее в тепло, кто забыл звериный завет веков – но негож уже башибузук, падает и скрипит гнилыми деснами, изъеденный злобой изнутри.
Еще подскажет ему прозорливец – не суйся ты в глухие переулки, зашло твое время. Там скоро шпана и ребята с гитарами, будущие Папанинцы, дождутся сумерек и выбредут стаями из косых бараков читать речитативы и учить случайных своему уму-разуму, ногами и палками. Не ходи, похожий.
Вот ведь пухлый майорский чин – уж на что при силе, и старшину, если надо, кликнет и замордует, но и тот в гнилую темноту и вечернюю сырость ни ногой. Сидит не на службе, дома, в угловой комнатенке, заставленной изъятым при расследованиях – малыми стиральными агрегатами, послевоенными ламповыми устройствами, современными передающими звук с речью плеерами и китайской бытовой дрянью, – и усердно чистит-блистит многими тряпками и снадобьями страшный бельгийский карабин с оптическим блоком точного боя. Ведь никто не знает, дорогой прозорливец, что майор – кандидат в мастера стрельбы и, бывало, выбивал пятак наспор из пальцев потного старшины с жуткой дистанции. А, кто гадает, могли бы и угадать – так уж майор гладит на службе рукоятку и ствол допотопного пистолета.