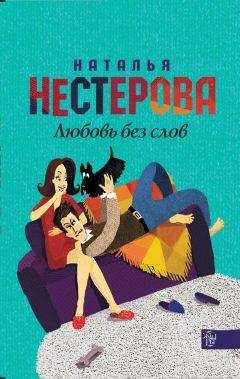Геннадий Гор - Изваяние
То опуская свои мутные сонные глаза и посматривая в лежащие на столе бумаги, то снова поднимая их и вглядываясь в меня, он рассказывал мне, кем я был, прежде чем попал в камеру. Талантливый режиссер, он, казалось, готовил меня к роли, которую я должен был играть несколько недолгих дней, отделявших меня от развязки.
Спокойно, не спеша, обволакивая себя и меня синим облаком сигаретного дыма, он описывал мое детство и юность, частную гимназию, помещавшуюся в стенах монастыря, рядом с кельями монахов. Он тщательно изучил мою жизнь, прежде чем вызвать меня на допрос. Но то, что он знал обо мне, не знал я.
Потом он начал рассказывать о себе. Голос его стал откровенно-доверчивым и глаза вдруг посветлели, стали почти по-детски гимназическими. Сквозь воинскую форму офицера уже просвечивал гимназист, казалось надевший в шутку мундир своего старшего брата. С необычайным искусством он сбрасывал с себя бремя жестоких лет, бремя своего опыта и возвращался туда, где когда-то пребывал и я, — в детство, в отрочество, в исчезнувший мир, на дне которого было так уютно.
Он тоже учился в этой же самой гимназии, но кончил ее на три года раньше. Сейчас он, словно взяв меня за руку, вел туда, в юность, в детство, в наш общий мир, где было так хорошо и ничто не угрожало кроме кори и только разве на худой конец — скарлатины.
Частная гимназия… Похожий на Антона Павловича Чехова классный наставник в пенсне с черным шнурком, закинутым за средних размеров учительское ухо, привыкшее к гомону перемен и всегда внимательно выслушивающее провинившегося гимназиста. Дядька с плохо выбритым лицом в широченных, всегда помятых штанах, водивший гимназистов на утреннюю молитву. И сам господин директор, либеральный и благовоспитанный человек, к тому же преподававший словесность и обладавший всего одной слабостью: на экзамене он любил выпытывать от попавшего в беду старшеклассника, что хотел сказать Николай Васильевич Гоголь своей странной повестью «Нос»?
Действительно, что он хотел сказать, этот Гоголь, когда описал, как нос сошел с лица мелкого чиновника и, надев вицмундир, стал разъезжать по Санкт-Петербургу в лакированной карете? Милый, добрый Гоголь, неужели он был в заговоре с безжалостными словесниками, расставлявшими на экзамене такого рода ловушку?
Штабс-капитан рассмеялся. Он сам оказался жертвой эксперимента великого русского писателя, не сумев разъяснить директору-словеснику на экзамене намерения давно умершего классика.
Да, он оказался жертвой коварного вопроса и сейчас хотел знать, не довелось ли случайно и мне попасть в ту же самую яму, вырытую классиком в сотрудничестве со словесниками? Если мне удалось каким-нибудь образом этого избежать, то он будет рад…
Воспоминания об отрочестве и гимназических годах, по-видимому, увлекли моего следователя. К тому же он не спешил. Перед ним лежал лист бумаги, лист пока еще безмятежно чистый и словно обещавший, что он так и останется не заполненным.
Но вдруг словно поворотом невидимого ключа штабскапитан замкнул детский мир, а заодно Гоголя, старого словесника и доброго классного наставника в чеховском пенсне. Лицо у штабс-капитана стало извиняющимся. Времена стали недобрыми. В этом все дело. И я должен был понять, что Артемий Федорович Новиков в этом виноват не больше меня.
А кто же все-таки был в этом виноват? Не могло же случиться так, что время само пожелало стать недобрым и разделило нас — людей, когда-то учившихся в одной и той же гимназии?
— Вы уверяете, — спросил штабс-капитан, и голос его вдруг налился металлом, — вы уверяете, что целых пятьдесят лет провели вдали от Земли?
— Не пятьдесят, а всего год. Но здесь, на Земле, действительно, прошло намного больше. Вам доводилось слышать что-нибудь об Альберте Эйнштейне?
— Эйнштейн? Как же, как же! Тоже член вашей подпольной большевистской организации?
— Нет, великий немецкий физик. Создатель теории относительности.
— Ну и что же? Будто физик не может быть большевиком.
— Он не здесь. Он живет в Германии.
— Оттуда и пришла зараза. Но что вы хотите сказать об этом физике?
— Вы хотите, чтобы я объяснил вам его теорию?
— Нет! Нет! Ненавижу математику. Уж лучше пофантазируем, как фантазировал здесь ваш сосед по камере. Этот большевик кроме будущего ничего не признает. Будущее еще будет или нет. А настоящее уже есть. И от него не спрячешься, не уйдешь. Я вижу, вы тоже своего рода Жюль Верн. А наш с вами словесник-либерал, понимал толк в художественной литературе. Этот самого Жюля Верна презирал за наивность. Какой уж там к черту полет на Луну, когда в земных делах не умеем разобраться. Вот и попал я вместо Луны в контрразведку, а вы в тюрьму. И кто же нас привел сюда? Да ваш Жюль Берн. Больше никто. Заманил своей мечтой о будущем. Но хватит Луны, довольно! Вернемся на Землю. Вам суждено быть расстрелянным. Это аксиома. Я долго не мог понять, что такое аксиома. Но математик в гимназии мне объяснил. «Человек смертей, — сказал он мне. — Ты, Новиков, человек и поэтому умрешь». Вот потому математика у меня как-то связывается со смертью. Хотите закурить? Ах, да! Забыл. В далеком вашем столетии все будут некурящие и непьющие, как в романах Жюля Верна. А теперь к делу. Вы встречались с Лубковым?
— Нет, не встречался.
— Не лейте пулю. Говорите правду. Что вам известно о Лубкове?
— Ничего. Да и откуда мне знать? Вы же знаете, откуда я сюда прибыл.
— Прибыли откуда — не знаю. А куда и когда отбудете — мне известно. Мне и господу богу, а не вам.
— Не пугайте. Смерти не боюсь. Жил бок о бок с ней, когда летел почти со скоростью света в вакуумах Вселенной.
— О Вселенной после, а сейчас расскажите о ваших связях. Нам, в сущности, почти все известно, но кое-что хочется проверить, сличить. Следствие, знаете, это тоже наука.
Страница перевернулась. И я снова оказался в камере, где меня ждал Синеусов, тоже обвинявшийся в нелегальных связях с красным партизанским отрядом Лубкова.
— Били? — спросил он меня.
— Нет. Пока обошлось. Он уверяет, что мы учились в одной гимназии.
— Боюсь, что это прием. Меня он, например, уверял, что хорошо знал моих родителей. Напрасно я его пытался убедить, что у меня их не было.
— И что же? У вас действительно их не было?
Он рассмеялся.
— Пусть это выясняет штабс-капитан Новиков. Моя задача остаться загадкой. Правда, это меня не спасет от расстрела.
Так мы перекидывались фразами, он и я, желая обмануть время и самих себя. Но время между тем шло и шло, и дело подвигалось к развязке.
Как-то вернувшись в камеру после очередного допроса, Синеусов сказал: