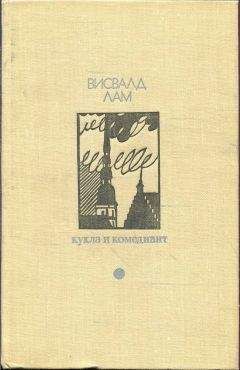Олег Овчинников - Кокон
Давай, Минотавр! Ариадна – хорошо, что гаврики не слышат! – уже заколебалась тебя ждать…
А если не получится? – робко подала голос прежняя, ни в чем не уверенная Аля. – Если ни нож, ни камень, ни маленький взрыв керосиновой бомбы не убьют ужасную тварь?
Тогда… – усмехнулась в ответ Аля новая, напрочь забывшая о страхе, сомнениях, жалости, боли и… черт!.. она уже не помнит, о чем еще! – Тогда у нас останется только один выход – сильно ткнуть лезвием вот сюда, на три пальца влево от вывернутого наизнанку пупка. Чтобы одним ударом – обоих, себя и ребенка…
Девочку?!! Ты с ума сошла! Неужели у тебя поднимется рука? Вспомни, как вы мечтали о ней! Как радовались, когда у вас наконец-то получилось. Как сверкали твои глаза, когда ты выходила из консультации – ярче, чем снег на солнце и солнце в снегу. Как Тошка всю неделю ходил счастливый и гордый, словно вожак павлиньей стаи. Как наконец-то прикусила язычок вечно правая мама, еще двадцать лет назад предупреждавшая: «Дочур, не сиди на холодном!»
Я помню. Но лучше уж так, чем… Сколько, по-твоему, у этой восьмиглазой твари ртов? Небось, четыре?
Да, лучше уж так.
Подруга…
Аля не сомневалась, что в случае чего не отдаст коварной гадине ни себя, ни своего нерожденного ребенка. Но как же важно, чтобы в моменты обостренной нервозности нашелся кто-нибудь, кто просто погладил бы по руке и сказал: «Не волнуйся, ты все делаешь правильно». Но нет никого. И тогда Аля погладила себя сама – по руке, сжимающей нож, и сказала:
– Не волнуйся, ты все делаешь правильно.
И не узнала собственного голоса.
«Трх-трх-трх» – раздалось откуда-то сверху. Так близко!
В животе отчетливо провернулось, потянуло тоскливо, будто на внутреннее веретено намоталась невидимая нить. Еще немного – и оборвется.
«Очень вовремя!» – подумала Аля.
Глава десятая
– Да не полезу я, товарищ старшина! Фонит, – артачился Василий, обвиняюще тыча в старшего по званию плоской серенькой коробочкой индивидуального дозиметра. Коробочка трещала и щелкала не хуже свихнувшегося метронома.
– Я тебе щас пофоню! – пообещал Душматов. – Ну-ка, дай сюда твой гейгер-шмейгер.
Отобрал, изобразил на плоском и выразительном, как остывший блин, лице подобие ярости, замахнулся, будто бы собираясь разбить противную игрушку о каменный пол пещерного входа – вдребезги! на тысячу кусочков!.. Постоял секунд десять неубедительным памятником разъяренному скифу, да и бросил коробочку, с размаху – на дно вещмешка.
– Все, больше не фонит? – Ноздри старшины раздулись якобы от злости, превращая и без того плоский нос в подобие свиного пятачка. Не то, что не страшно – смешно.
Блефуешь, старшина, спокойно подумал Василий. Тебе за приборчик еще вечером расписываться. Правильно про вас Блок писал. С раскосыми и жадными очами. Одно слово…
Кажется, это самое слово он все-таки прошептал. Нечаянно.
– Что ты сказал? – завелся старшина. На этот раз, похоже, по-настоящему.
Пришлось выкручиваться.
– Ничего. Тезку своего процитировал, Василия Теркина. Проходили в школе? У вас в ауле школа вообще есть? То ли чурка, то ли бочка, то ли, понимаешь, глаза маета…
– Слушай, Теркин! – А вот раскосые очи Душматова при ближайшем рассмотрении совсем не казались смешными. Солнце отражалось в черных зрачках остриями кинжалов. – Ты мне эту маету лучше брось. Русским языком тебе говорю. Понял?
– Понял, понял…
Действительно, понять старшину не составляло труда. Закончив среднюю школу в родном ауле, он поступил на филологический факультет МГУ. То ли за большой калым, то ли в рамках программы «все республики нужны, все республики равны». Проучился, естественно, до первой сессии, но все равно его русский без натяжки можно назвать сносным. Чего, к сожалению, нельзя сказать о характере старшины.
– А раз понял, то давай, лезь!
– Товарищ старшина!.. – Василий замолчал. Что скажешь человеку, для которого кастаньетный перестук счетчика – не довод?
– Я пойду, – подал голос Страшный Человек, которого, по всей видимости, изрядно утомила вся эта суета.
И, отодвинув Василия рукой, он уверенно шагнул в темноту.
Василий Саркисов последовал за ним практически без задержки, только фонарик от пояса отстегнул, услужливо посветил под ноги молчуну-багатуру. Когда впереди, перекрывая обзор, маячит спина, на которой в принципе не сходится ремень автомата, не страшно идти куда бы то ни было. И тихий шелест отщелкиваемых рентген не слышен на фоне каменной поступи.
Вообще-то Страшного Человека звали Алкис, но мало кто в части решался обратиться к нему первым. Даже среди младшего офицерского состава не находилось таких смельчаков. У старшины Душматова, по идее, тоже было какое-то имя, но какое именно, его подчиненных мало интересовало. На кой? Лучше по-простому: «Тварьш-шна!» – сказал как сплюнул, дернул рукой как за ухом почесал и иди, солдат, неси дальше свою нелегкую службу.
Старшина шел замыкающим. Уголки его губ едва заметно кривились, что в данном случае означало довольную ухмылку. Ай, Василий Теркин, ай, упрямый человек! Фонит ему, надо же! Хорошо, что оружейка стоит прямо за КПП. Явился с полей – первым делом сдай автомат, сдай штык-нож, сдай дозиметр. Иначе бегали бы такие упрямые по всей части, в столовую не зайди, в казармы не зайди, в сортир не зайди – везде им фонит, что ты будешь делать! А где сейчас не фонит? Где нас нет? Ну разве что…
Страшный Человек шел вперед, пока было куда идти. Как только широкий проход разделился на два поуже, багатур встал. Молча, не оборачиваясь. Как трамвай после отключения тока, отметил Василий и поспешил свериться с листком-схемой, набросанной днем раньше в лазарете, на тумбочке.
– Тут направо.
Страшный Человек развернулся на месте, всем телом, и не пошел, а продолжил движение. Точно, трамвай, восхитился Василий и замельтешил следом.
Однако повезло мужику. Как там его? Кажется, Антон. Да. То есть язык не поворачивается сказать «повезло», когда у человека такое горе: жену, считай, потерял, ребенка потерял, сам без малого потерялся. И все равно, получается, повезло. Вот вылез бы он из своей преисподней, когда на часах стоял не Василий, а кто-нибудь из местных, пристрелили бы в момент, перепутав с шайтаном, без глупых реверансов вроде «Стой, стрелять буду». Грязный, весь в ссадинах, в каком-то жутком рванье… Вспоминать страшно!
Василия передернуло.
– Отставить дрожать, рядовой Саркисов! – немедленно раздалось сзади.
На память сразу пришел Теркин. «То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке». Плывет себе, не тонет…
Угораздило же его загреметь по призыву в эту степную дыру! Да еще в часть, где на каждое отделение приходится девять аборигенов и всего один какой-нибудь белорус. Не служба, а борьба за выживание… с нанайскими мальчиками. Слово поперек скажешь, посмотришь не так – все, пиши пропало, сворачивай треугольничком и отсылай на адрес безутешных родителей. Налетят всем аулом, устроят Самум с Степи, и езжай, солдат, домой цинковой бандеролью… Или это военком на фамилию Саркисов так отреагировал? Думал, гад, к своим посылает? Самого бы, сволочь, кто так послал…