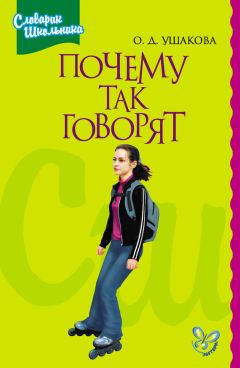Гай Дойчер - Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе
Часть II
Сквозь призму языка
Глава 6
Осторожно: Уорф!
В 1924 году Эдвард Сепир, светило американской лингвистики, признавался, что не питает иллюзий насчет отношения дилетантов к его сфере деятельности: «Человек нормального склада ума склонен пренебрежительно относиться к занятиям лингвистикой, пребывая в убеждении, что нет ничего более бесполезного.[192] Столь малая полезность, которую он усматривает в этих занятиях, связана исключительно с возможностями их применения. В самом деле, рассуждает неспециалист, французский язык стоит изучать потому, что существуют французские книги, которые заслуживают прочтения. Древнегреческий язык если и стоит изучения, то потому, что на этом любопытном и ныне мертвом языке написано некоторое количество пьес и стихов, до сих пор обладающих могущественной властью над нашими сердцами. Что же касается прочих языков, то для них существуют прекрасные переводы на английский… А когда Ахиллес оплакивает гибель своего любимого Патрокла, а Клитемнестра совершает свои злодеяния, то что нам делать с греческими аористами, которыми мы праздно владеем? Есть традиционный ряд правил, объединяющий и организующий их в схемы. Эти правила называют грамматикой. Человека же, который владеет грамматикой и которого называют грамматистом, остальные люди считают холодным и безликим педантом»[193].
В собственных глазах Сепира, однако, такое мнение было бесконечно далеко от истины. То, что делал он и его коллеги, нисколько не напоминало педантичное отделение сослагательных наклонений от аористов, заплесневелых аблативов от ржавых инструментативов. В то время лингвисты делали яркие открытия, меняющие саму картину мира. Открывались обширные неизведанные земли. Языки американских индейцев и то, что там обнаружилось, полностью переворачивало тысячелетние представления о естественных способах организации мышления и выражения. Ибо индейцы изъяснялись невообразимо странными способами и таким образом демонстрировали, что многие аспекты знакомых языков, ранее в основном считавшиеся просто естественными и универсальными, были всего лишь частными особенностями европейских языков. Подробное рассмотрение языков навахо, нутка, пайют и множества других туземных языков вознесло Сепира с коллегами на головокружительную высоту, откуда они смотрели на языки Старого Света как люди, впервые увидевшие свою лужайку с воздуха и внезапно осознавшие, что это лишь маленькое пятнышко в обширном и разнообразном ландшафте. Впечатление было, видимо, очень сильным. Сепир описал его как освобождение разума: «В наибольшей степени сковывает разум и парализует дух упрямая приверженность догматическим абсолютам»[194]. А его студент в Йельском университете Бенджамин Ли Уорф пришел в восторг: «У нас больше нет оснований считать несколько сравнительно недавно возникших диалектов индоевропейской семьи… вершиной развития человеческого разума. Нельзя считать, что все это, включая собственные процессы мышления, исчерпывает всю полноту разума и познания… но лишь как одно созвездие в бесконечном пространстве галактики»[195].
Трудно было не поддаться этому впечатлению. Сепир и Уорф уверились, что серьезнейшие различия между языками должны иметь последствия, которые идут значительно дальше грамматической структуры и связаны с глубокими расхождениями в образе мышления. И вот в этой пьянящей атмосфере открытия внезапно стала популярной идея: наш родной язык определяет способ, которым мы думаем и воспринимаем мир. Сама идея была не нова – она примерно в этом же виде лежала на поверхности уже больше века, – но в 1930-х ее перегнали в крепкое зелье, которое затем отравило целое поколение. Сепир дал этой идее фирменное название принципа лингвистической относительности, приравнивая ее ни много ни мало к теории Эйнштейна, недавно потрясшей мир. Поправка Сепира к Эйнштейну гласила: то, как наблюдатель воспринимает мир, зависит не только от его инерциальной системы отсчета[196], но и от родного языка.
Следующие страницы расскажут историю лингвистической относительности – историю опозоренной идеи. Ибо насколько эта теория однажды вознеслась, столь же низко она потом пала, когда обнаружилось, что Сепир и в еще большей степени его ученик Уорф приписывали далеко идущие когнитивные последствия тому, что на самом деле было лишь отличиями в грамматической структуре. Сегодня любое упоминание лингвистической относительности заставляет большинство лингвистов неловко заерзать в своих креслах, а уорфизм в общем стал интеллектуальным прибежищем для философов мистического толка, фантазеров и постмодернистских ловкачей.
Зачем тогда вообще нужно рассказывать историю опозоренной идеи? Не для того (или не только для того), чтобы задним числом ощутить свое превосходство и показать, как глупы иногда могут быть даже очень умные люди. Хотя нельзя отрицать, что в подобном упражнении есть своя прелесть, настоящая причина поворошить грехи прошлого такова: хотя безумные утверждения Уорфа были в целом ерундой, позже я попробую вас убедить, что идею, будто язык может внушать мысли, не стоит отметать с порога. Но если мне предстоит выстроить правдоподобную версию того, что некоторые аспекты подразумеваемой идеи достойны применения и что язык все-таки может работать как призма, через которую мы воспринимаем мир, то, решая эту задачу, следует избегать предыдущих ошибок. И только разобравшись, в каком месте лингвистическая относительность сбилась с пути, мы сможем пойти другой, правильной дорогой.
Вильгельм фон Гумбольдт
Идея лингвистической относительности не появилась из ниоткуда в ХХ веке. То, что произошло в Йеле – слишком бурная реакция ослепленных открывшимся потрясающим лингвистическим ландшафтом, – на самом деле было почти точным повторением эпизода из начала 1800-х, когда немецкий романтизм был в самом зените.
Господствующее предубеждение против изучения неевропейских языков, над которым иронизировал Эдвард Сепир в 1924 году, не было предметом для шуток столетием раньше. Просто было общеизвестно – не только «человеку нормального склада ума», но и самим филологам, – что единственные языки, которые стоит учить, это латынь и греческий. Иногда к ним добавляли семитские языки – иврит и арамейский – из-за их богословского значения. Санскрит в клуб классических языков приняли неохотно и лишь потому, что он так похож на греческий и латынь. Но даже современные языки Европы обычно рассматривались как вырожденные формы классических языков. Излишне упоминать, что языки неграмотных племен, не создавших великой литературы и не имеющих каких-то других подкупающих особенностей, рассматривались как не представляющие никакого интереса примитивные жаргоны, такие же никчемные, как примитивные люди, которые на них говорят.