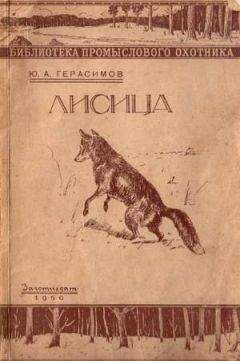Сергей Герасимов - Изобретение зла
Да.
- Скажи ещё что-нибудь.
Но Синяя Комната молчала. В комнату уже входил день. Все менялось.
Больше никогда я не буду здесь ночью. Я встал слишком поздно. Ну и пусть, все равно я никогда не забуду Синюю Комнату.
Я посмотрел в окно, на висящий черный треугольник крыши и моя мысль ушла в другую сторону.
А потом?..
Потом я спущусь, конечно, потом выйду на улицу, потом вырасту и заберу отсюда Синюю. Она будет все время помнить обо мне и тосковать сильно-сильно.
Тогда мы будем большие и поженимся. Значит, я обязательно вернусь и спасу её.
- До свиданья.
Синяя Комната молчала.
Выходя, я почувствовал холод. Впервые я подумал о том, что на улице уже зима. Тонкий больничный халат почти не согревал плечи и спину. Судя по узорам на стеклах, к утру сильно похолодало.
36
Лестница. Шесть прутиков-ступеней, истертых до блеска. Интересно, кто же это ходил здесь так много? Замок. Крышка, которую нужно приподнять - вот так - беззвучно. За ней темнота.
Я поднялся на чердак и глубоко, до боли в груди вздохнул. Я узнал запах, которого ещё никогда не чувствовал - запах неоконченной стройки или запах свежих развалин. Запах кирпича, с которого содрана кожа. Пройдут годы и я снова вспомню этот запах. Я буду почти взрослым тогда; однажды я войду в провал дома-скелета, переступая битые кирпичи, обходя загаженные лестницы, ведущие вникуда - лестницы рвущиеся к небу, бесполезно взлетающие над грудами мусорного мира; лестницы, вырастающие из грязи и обрывающиеся в солнечных лучах - совсем как гениальные, но непонятые стихи. Я вдруг остановлюсь, вспомнив.
Воспоминание о том, как, поднимаясь на чердак перед побегом я вспомнил о том, чему только предстоит всершиться. Память, замкнутая в кольцо. Воспоминание, острое, как скальпель. Мои ноздри расширятся, я превращусь в невидимость и неподвижность, принюхиваясь, как древнее волосатое существо, и снова стану на мгновение маленьким, потерянным, но сильным от сознания близости цели.
На чердаке было холодно.
На чердаке было холодно. Расширяющийся и тускнеющий книзу столб света означал окно на крышу. Продвигаясь к окну, я ощутил, как сжимается кольцо холода вокруг меня. Холод пока не проникал в глубину - тонкая пластинка теплого, пока спящего, воздуха пряталась под одеждой, прорываясь здесь и там иголками холодных прикосновений.
Поднявшись на крышу, я осмотрелся. Я никогда не был так высоко и не ожидал, что это будет так красиво. Плоские шероховатости крыши кое-где вспыхивали ледяными искрами, блестели, уже предчувствуя солнце. Город, такой высокий и бескрайний снизу - город башен и гранитных лабиринтов заканчивался невдалеке, врастая в туманную темную половину неба, вырождаясь в сгоревшие лачуги, дороги и снежные холмы. Внизу стали в ряд три автобуса со ржавыми крышами - сверху их не красят, потому что сверху никто на их не смотрит. С другой стороны город тоже был маленьким, он уходил в поля, прорывался вдалеке ребристыми кристаллами небоскребов, окутывал белыми лохмотьями дымов собственные горизонты. Я знал, что окраина города всегда горит, но не знал как это красиво.
Там, в дыму, кто-то день и ночь воевал с кем-то, кто-то усердно убивал кого-то - старался до тех пор, пока не убьют его самого. И никто не знал, за что он воюет. Все воевали за одно и то же, за справедливость, но почему-то воевали друг с другом.
С темной стороны неба, полурастворенная в дымке, нависала каменная стена заоблачной высоты - память о мощи последней большой войны. Война прошлась плугом, вздымая и разрушая горы, и закончилась ужасно давно - сто или двести лет назад.
С тех пор все воевали понемножку.
Ощущая себя великим, я подпрыгнул два раза; теперь я могу рассказывать, что прыгал выше дома. Надо мной было небо - безразличное, но недоброе, будто мертвый акулий зуб под музейным стеклышком. Для неба я был никем; для неба весь город был только маленьким серым нарывом на неровной кожице зимних полей.
Где-то там, в многокилометровой фиолетовости, двигались огромные потоки, подставляющие свои спины звездам, а животами цепляющие крохотные небоскребики, далекую решетчатую вышку гелиостанции и волосы на моей голове.
Потом я подошел к краю.
Край крышы просто заворачивал вниз, безо всяких перил.
Вначале я стал на четвереньки. Двигаясь к краю, я вытягивал шею, чтобы увидеть двор больницы. Колени сразу промокли, а твердые камешки больно давили.
Я вспомнил рассказы о непослушных детях, которых ставят коленями на соль - бедные, лучше бы они не баловались.
У самого края я лег на живот, прополз последние сантиметры и свесил голову; потер некстати зачесавшийся нос о яркую льдинку на самом изгибе. Льдинка растаяла и на носу повисла капля, щекотавшая ещё сильнее. Нужная крыша была внизу, ниже примерно на высоту моего роста. Совершенно пустое пространство между домами страшно просвечивалось до самого низа: внизу больничный двор белел нерастаявшим снегом. На снегу были следы - кто-то много ходил сегодня ночью - странно.
В белом дворе мы гуляли несколько раз. В первый раз шел снег, густой и шершавый, он звучал, осыпаясь на черную жесткую землю. Второй раз было солнце и двор был белым. В третий раз на фоне горящего неба медленно двигался самолет, медленно-медленно, как черная козявка, ползущая по стеклу. Двор был белым и сейчас, и вон та скамейка тоже. На самом деле она зеленая. Возле той скамейки, гуляя в последний раз, мы с Синей придумали шифр. Нет, мы придумали, что нужно придумать шифр, чтобы писать друг другу письма и чтобы никто не понял. Потом уже я придумал две первые буквы шифра: "А" и "Б", а Синяя придумала мягкий знак... Там дальше, невидимый из-за дома, стоит гудящий черный ящик, опутанный проводами и огражденный решеткой. Провода от него идут сюда тоже. Что это?
Я проследил провода глазами и только сейчас заметил голубя на соседней крыше - рядом с тем местом, куда нужно прыгать. Голубь сидел незаметно, прижавшись к выступу железки и не шевелился. Спал, наверное. Голубь был дикий
- серый, с кольцом на шее.
Когда пришло время, я встал на ноги. Я стоял в полуметре от края и, наклонившись, мог заглянуть вниз. Это было не страшно, а только радостно и необычно. Хотелось нагнуться сильнее, но я сдержался. Вспорхнувший снова легкий ветерок прошел холодом сквозь мокрый халат на груди. Пора.
Что это?
Хуже всего было то, что вторая крыша была наклонной и, видимо, скользкой.
На ней не было никаких зацепок, кроме тонких, почти незаметных железных ребрышек. Ребрышки были направлены вниз. С такой крыши можно соскользнуть, даже просто сидя на ней. И ничего не поделаешь, схватиться не за что. Меня это не могло остановить. Дело в том, что за свои короткие восемь лет, я уже много раз побывал в ситуациях, из которых невозможно выйти целым. Как ни странно, со мной ничего страшного не происходилло. В последний момент всегда случалось что-то невообразимое и выручало меня. Как пелось в какой-то средневековой песне: "темные силы нас злобно хранят". После каждого такого случая я слегка задумывался, пытаясь понять, для чего же хранят меня эти силы, какая от меня может быть польза, и что мне предстоит сделать такого особенно нужного и нужного для кого, но ничего правильного не придумывал. Из всех таких случаев я вынес только сознание того, что могу поступать как вздумается и ничегошеньки со мной не случится. Даже потом, став взрослым, разобравшись в сути всего этого, узнав, кто меня хранил и предполагая для чего, я не вполне избавился от моего инстинкта самонесохранения. Но теперь я борюсь с ним по мере возможности и надеюсь все же умереть от старости. Теперь я знаю, кто хранил меня.