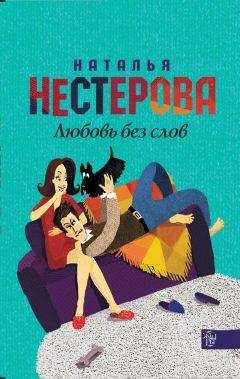Геннадий Гор - Изваяние
Старухам понравился сам миф, но продолжение мифа, прозаически осовремененное и оскверненное Колей, вызвало старушечье недовольство.
Одна из старух (а были они такие же одинаковые, как упоминавшиеся выше писатели-близнецы), разомкнув щель своего морщинистого рта, сказала Коле:
— Нечестивец! Хотя бы чужую святость пощадил. Видишь, она безумная. А ты пристаешь.
Но в оробевшем Коле вдруг проснулся комсомольский дух тех лет и ненависть к богомолкам и к религиозномещанскому ханжеству.
— Здесь не церковь, — сказал он старухам, — и не небо, а грешная земля. Ну-ка сгиньте, старые сплетницы. Не то приду к вам на квартиру и проведу антирелигиозную беседу!
И сказав это, он протянул руку мило улыбающейся богине и повел ее к себе на шестой этаж. Он вел ее и сам не понимал для чего: все происходило как во сне, одновременно прекрасном и кошмарном, — во сне, где злые лица старух становятся еще страшнее и носатее, а лицо участницы мифа и чуда, только что свершавшегося во дворе, еще чудеснее и сказочнее.
И много лет спустя, в ту пору, когда Коля из худенького аспирантика превратился сначала в складного члена-корреспондента, а потом и в величественного академика, этот странный сон часто вспоминался тому, кто обычно предпочитал реальную действительность даже самым чудесным снам.
Но вернемся сюда, на пахнувшую кошками старопетербургскую лестницу с чугунными перилами и тяжелыми ступенями, по которым рядом с Колиными ногами, обутыми в разношенные сандалии, легко шагали босые обветренные ноги богини.
Казалось, шестой этаж стал двенадцатым, так медленно они поднимались, но всему есть конец, даже старопетербургской лестнице. И вот они уже стояли перед дверью, где из ящика для писем выглядывала «Красная газета» и «Бегемот», выписываемые соседями, которых, к счастью, кажется, не было дома.
Коля открыл дверь французским ключом и провел уличную певицу в свою крошечную комнатку, вполне самобытным украшением которой служила книжная полка и репродукция на стене с изображением той, которая так изменилась, ходя по дворам, что ее не узнал бы сам художник М., писавший ее, как писали мадонн, на фоне глубокого староитальянского окна и особого ренессансного неба, вероятно и подсказавшего Джордано Бруно его бессмертную идею о бесконечности мира.
На книжной полке стояло несколько очень редких книг, книг-уникумов, купленных Колей в книжном развале на Литейном у старенького букиниста, греющего зимой зябкие руки над специальным и хитроумным приспособлением, сочетавшим в себе конструкцию примуса с принципом железной печки-буржуйки.
Богиня села на единственный Колин стул и оттого, что села, стала еще божественнее. И что-то случилось с Колиными вещами: с керосинкой, с чайником, с убогой железной кроватью, покрытой шотландским пледом, купленным Колей на барахолке. Все вдруг превратилось в картину Ван-Гога: осветилось, окрасилось, стало сгустком энергии, словно чья-то рука содрала с вещей их убогий скучный обыденный покров. И даже стена, оклеенная мещанскими обоями, где давно уже завелись клопы, ночью зло и больно кусавшие Колю, даже натуралистически-обычная стена вдруг превратилась в бесконечность по тем же самым Ван-Гоговым законам.
— А кроме древнескандинавского языка, — спросил неожиданно Коля, — какие вы знаете еще?
Вопрос звучал глупо, совсем по-студенчески (даже не по-аспирантски), будто раскрасневшийся обалдуй и заика-студент беседует с курносой жидковолосой студенткой, от смущения и робости не зная, о чем и как говорить.
— Я знаю очень много языков, — ответила Офелия, — и живых, и мертвых, и даже таких, которые были мертвыми, но снова стали живыми.
— Откуда?
— Надеюсь, вы не заставите меня писать автобиографию. Из-за этого документа меня и отправили в Бехтеревку, откуда мне удалось, к счастью, сбежать.
— Говорят, оттуда сбежать невозможно. Сторожа. Пропуска. Толстые стены.
— Я умею проходить сквозь стены, — сказала она. — Но пока, ради бога, не спрашивайте меня, каким способом. Об этом я расскажу вам, когда мы познакомимся ближе.
И они познакомились ближе, и это тоже было частью мифа, частью рыдающей, стонущей и хохочущей на весь узкий двор-колодец древнескандинавской саги, вдруг превратившейся в реальную жизнь и приобщившей к себе Колю с его керосинкой, чайником, железной кроватью и книгами-уникумами, стоявшими на деревянной полке, — с книгами, спрессовавшими древнюю мудрость, когда-то жившие страсти, тысячелетия и века.
Казалось Коле, что он вскочил в извозчичью бричку на чичиковских рессорах и, видя широкую, подбитую ватой спину лихача, вообразил, что лихач уже везет его навстречу тому, что еще вчера казалось невозможным.
У Коли не было денег, чтобы ездить на извозчичьих бричках, иногда не хватало и на трамвай. Но в его комнате поселилась босоногая богиня в дырявом платье, и Коля, схватив свои самые редкие книги, побежал на Литейный в книжно-антикварный магазин. В потрепанном Колином портфельчике лежал старинный том Рабле, может побывавший в руках у Вольтера или Чаадаева, там же лежали редчайшие издания других классиков и томик Лермонтова с дарственной надписью, сделанной Михаилом Юрьевичем, разумеется, не для Коли, а для одного из своих современников, давно исчезнувшего в волнах времени. Коля знал цену лермонтовскому автографу и не собирался редкую книгу отдавать за бесценок.
Но во что превратились Рабле, Плотин, Ариосто и старенький Данте? В новое платье, в женские туфли, в чулки и в другие подробности дамского туалета. Из всех перечисленных классиков, вероятно, только один Рабле понял бы Колю и не обиделся бы на него за такого рода странный обмен, впрочем вполне возможный не только в Колино время, но и во всякое другое.
Когда Офелия сняла свое дырявое платье и надела все, что ей принес Николай, она сразу изменилась и стала куда обыденнее, чем была во дворе-колодце, собирая там пятаки и гривенники. Она значительно изменилась, но миф тем не менее продолжался, и Коля не жалел ни о лермонтовском автографе, ни о фолианте Франсуа Рабле, напечатанном деревянными литерами на толстой, напоминавшей пергамент, бумаге.
А во дворе посменно дежурили две носатые старухи, гадая, чем кончится так странно начавшееся событие. И покарает ли иностранный бог безбожника-аспиранта, покусившегося на святость, или его привлечет к ответственности квартальный, потому что сколько же можно держать у себя постороннюю без прописки, не предупредив даже управдома, безалаберного, не видящего, что у него творится под носом, но тем не менее очень довольного жизнью и самим собой старика.