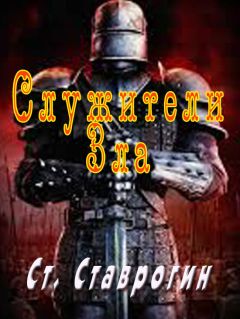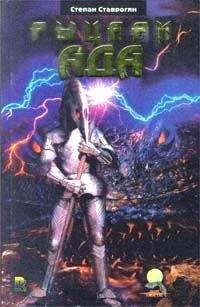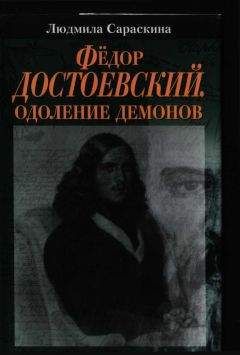Станислав Лем - Лолита, или Ставрогин и Беатриче
"Любовь окружена лицемерием и ханжеством, следует показать ее во всей полноте," -- сказал себе автор и взялся за дело. Туда, где до сих пор преобладало piano, приглушение или вообще цезура умолчания, он ввел физиологию. Спор о том, является ли повесть порнографией, горел долго; разрешение этого спора меня мало трогает, ибо -- порнография это или нет -в художественном отношении получился блин. Сначала, сколько мог, автор шел вдоль анатомической дословности, потом надстроил над ней "возвышенные" комментарии, гимиы в честь "красоты обнаженности"; в своей заносчивости он даже на гениталии обратил внимание, но ничего не могло его спасти -- никакая "сублимация как противовес скабрезности" -- от художественной неудачи; при таких предпосылках не убережет писателя ничто, кроме иронии. Почему? Прежде всего потому, что писатель является наблюдателем, невозможным уже из самых глубоких основ эротики. Это слово позволит нам понять одну из самых существенных трудностей в изображении сферы половой жизни. Какими бы способами писатель ни пытался укрыть следы своего присутствия, оно само, представленное любовной сценой, свидетельствует, что он -- в определенном, психологическом смысле -- был там. И это как раз та роковая ошибка фигуры "подсматривающего", которой, собственно, не избежал Лоуренс. Единственный выход -- жанр дневника, воплощение в рассказчика до конца, рассказ от первого лица; к сожалению, это устраняет только половину днссонанса, поскольку второй "подсматривающий", каким выступает читатель, остается на месте. Следовательно, самому участвовать, выражаясь неловко, в половом акте как одному из партнеров -- это нечто совершенно иное, чем на такую сцену смотреть со стороны. Половой акт, чтобы быть избавленным от оттенка малейшей анормальности, должен быть герметично интимным. В литературе, естественно, это невозможно. Отдавая себе более или менее отчет в обязательности введения в границы крайней интимности, какая может быть уделом только двоих, назойливого читателя, писатели прибегали к различным ухищрениям. Результаты же, как правило, плачевны. Поскольку внешний, физический вид копуляции чем-то прекрасным, эстетически возвышенным в книге сделать невозможно, употребляются средства стилистические, которые тут же демаскируют "замазанные" места.
Обычно (а здесь уже определенная традиция!) писатель прибегает в определенных местах к "пропуску", убегая от фактов физиологии в предложения извещающие, общие, которые должны свидетельствовать о переживаемом в данный момеят героями повествования блаженстве (что невозможно, потому что между называнием и переживанием ощущений нет мостов). В других случаях опять вводится сомнительного качества поэтическая символика, метафора, охотно черпаемая из определенных явлений природы, таких, как океан, например, и перед нами тогда какие-то волнения, ритмы, проваливания, затеривания и тому подобное. Но явность убожества таких приемов я считаю очевидной до банальности. Существенной причиной поражения является третья пара глаз, которые закрыть невозможно -- глаз читателя, и ни ретирада в убогую лирику -- как эквивалент оргазма, ни цитирование учебника сексологии -- с художественной трансфигурацией не имеют ничего общего. Это подлинная квадратура круга и кроме того -- переход от одной крайности, ханжеского лицемерия, к другой, пытающейся украсить факты физиологии. Тем временем каждый врач знaeт, чтo человек, переживающий сексуальное блаженство, не является ни Аполлоном Бельведерским, ни Венерой Милосской, и писатель, стремящийся к "верности природе", к последовательному бихейвиоризму, сам себя обрекает на укладывание мозаикн из элементов, носящих научные названия тумесценции, фрикции, оргазма, аккомпанимент которых в сфере всех органов чувств и эффектов, вокальиых в том числе, с симфонией сравнить трудио. Что же остается? Или компромисс эстетики с физиологией (а в искусстве компромиссы, как известно, дорого обходятся автору!) и возможность обвинения в порнографии (с художественной, а не моральной точки зрения она является одним из "низких приемов"; аналогично, например, "изображение жизни высших сфер" или "устройство неслыханной карьеры с помощью бедной девицы" и т.п.), либо, как способ, найденный относительно поздно, сознательное акцентирование животной, тривиальной стороны, вследствие чего вся история, по крайней мере, настолько отвратительна для читателя, что этот способ изображения не доставляет ему удовольствия. Когда партнерша похожа больше на ведьму, чем на кинозвезду, а партнер -- грязный тип, у которого для верности еще и изо рта воняет, шансы развратить падают до нуля и остается на месте только тезис "показывания подлинной грязи жизни".
Такого рода антипорнография вследствие своей псевдофилософской претенциозности выступает как художественная "тoнкocть". Этим я и закончу это огромное отступление о "копуляционизме", в ловушку которого привела некоторых художников школа бихейвиоризма; но я должен буду вспомнить еще два особых обстоятельства. Выше я одним словом упоминал о конкретном шансе, каким является курс на иронию. Насмешка, иеотъемлемо связанная с описанием акта или даже с заменяющим его описанием, может быть художественно ценной. Из наших прозаиков охотнее других прибегал к этому приему, правда в несколько гротескном плане, Виткаций. Спасение здесь реальное, не лицемерное, ибо в сaмoм контрасте сексуальных переживаний с их обязательной "извнешносью" содержится среди прочего и искра комизиа, которая возникает часто там, где исключительная приподпятость (а это ведь атрибут любви) кульминирует в какой-то своей противоположности. Раз я yж так разговорился, вынужден это рассуждение вести дальше. С точки зрения конструктора, который любое творение рассматривает как целое, всякий элемент, в том числе и наш сексуальный контакт будет художественно безупречным лишь в том случае если характеризуется в отношении целого определенной подчиненностью. Если доброжелательный читатель обратит внимание, что я до сих пор, как мог, старался не быть скабрезным, то он позволит мне, вероятно, объяснить вышесказанное иа примере, взятом, так сказать, поблизости анатомии.
Физиологическая функция, оторванная в произведении от психосоциальной ситуации человека, не будет, конечно, смешной, разве что для простака, но введение, например, акта дефекации может быть смешным, и не столько, опять-таки, из-за тривиальности (хотя издавна известно, как охотно народный юмор -- и живительно -- черпает из скатологических источников), сколько из-за контраста, который может совсем неожиданно обогатить, или развеять, или в другом, чем прежде, направлении повести выдерживаемую тонацию. Если, например, сразу после коронации королева побежит со всеми атрибутами власти в туалет, раз уж эмоции акта коронации захотят найти именно такой выход, то ее беспокойства, сопровождающего ее проблемы (стоит, например, снять корону с головы, или это не обязательно -- что, мол, мертвому предмету повредит в одиночестве) -- этих проблем повесть девятнадцатого века наверняка бы нам не показала (Рабле же это делал охотно). Критик мог бы не без основания возразить, что дефекационные хлопоты монархов не могут свидетельствовать об уровне произведения, что это, одним словом, идиотизм. В принципе я согласен, но еще одно предупреждение. Случается, и довольно часто, что произведение изображает группу или двоих только людей, к тому же разного пола, замкнутых какой-то ситуацией (плот с потерпевшими крушение, запломбированный вагон, везущий пленных или репатриантов, или что-нибудь в этом роде); при этом скрупулезно-реалистичный автор показывает нам обычно со всякими подробностями, как эти люди ведут себя, как едят, как разговаривают, в то время как известная проблема остается целиком забытой либо сознательно не затронутой; а это будет уже совершенно фальшиво, потому что угнетенные и, я бы даже сказал -- терроризированные сферой физиологической обязательности "низшего порядка" отношения между людьми -- и не только товарищеские, -очень быстро начинают развиваться к непосредственной тесной связи. Прошу только не принимать меня за представителя какой-нибудь "школы логической дедукции", т.е. за сумасшедшего, который бы серьезно требовал, чтобы автор прекрасной повести "Пять недель над Африкой на воздушном шаре" сообщил, как уважаемый профессор и его очаровательные товарищи решили проблему английской сдержанности в отношении неотвратимых требованнй своих органических естесгв. Ничего подобного; я понимаю введение в таких случаях условия "притворяться турком", и в конце ведь концов, этот шар летит перед глазами читателей до шестнадцати лет. Однако если повесть должна быть безоговорочно реалистичной, то уж тогда позвольте: реализм не только удовольствие, но и обязанности. Ну, уж если автор чересчур настаивает на своей позиции умолчания, то должен, по крайней мере, не забыть о каком-нибудь кустике, а если и его не создал, то уж должен как-то в подобных ситуациях придерживаться логики физиологии и ее следствий, которые могут выступать предпосылками психологических движений, а это небезразлично для развития действия. Еще раз прошу извинить, но реализм, если уж кто-нибудь в него упрется, действительно обязывает, он может вынудить к такому соединению поноса с чьим-нибудь "ангельством", которого автор, возможно, хотел бы избежать. И именно здесь место тому, что немцы называют aus einer Not eine Jugend machen, ибо открывается дорога неожиданным коротким замыканиям. Все это я говорил на полях главной проблемы, потому что мы волей-неволей оказались втянутыми в физиологию, которая выступает своеобразным прологом главной темы -- патологии. Как видим, итог нашего рассмотрения полностью отрицательный: мы убедились, я думаю, что фронтальная атака вопросов пола ведет к художественной неудаче. И в самом деле, любовный акт имеет в шкале художественных ценностей такую же самостоятельную ценность, как изображение агонии, дерева или какого-нибудь другого явления либо предмета, но из-за своей особой позиции в иерархии человеческих переживаний он обладает, будучи показанным в произведении искусства, такой способностью возбуждения, которая эстетически вредна, потому что выступает для читателя потенциальным источником таких ощущений, до которых автору нет никакого дела. Это значит, что, возбуждая, акт выпадает из композиции, автономизируется путем совершенно нежелательным, и если психический климат, напряжение атмосферы произведения не подчиняет его успешно своим целям, он становится грехом, не столько против моральности (что нас меньше всего здесь беспокоит), сколько против искусства композиции, cтановится брешью в средствах интеграции произведения. Другое дело, если вызванный диссонанс был, собственно, намерением художника, как это я пытался представить на не очень блестящем примере той монаршей особы, приводя этот пример для доказательства служебных эстетических возможностей явления, не очень приятного в другом отношении. Можно было бы добавить для осторожности, что скатология тоже возбуждает определенные натуры, но это уже ненормальности приема, а не передачи: предмет нашего разговора -- литература об извращенцах, а ие та, которая для них пишется.