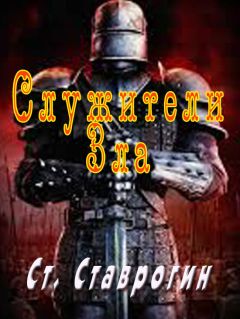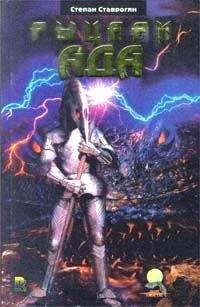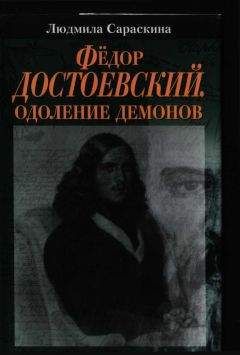Станислав Лем - Лолита, или Ставрогин и Беатриче
Так выглядит повесть. Обвинения в порнографии, которые Набоков в послесловии с презрением отвергает, не принимая их всерьез, являются (в сопоставлении с плеядой массово производимых в США "триллеров", этой "черной серией", возбуждающей сексуальные аппетиты определенного типа читателей) выражением уже даже не ханженства, а откровенного бесстыдства тех, кто такие обвинения предъявлял. Иначе говоря: если книгу разрезать, разделить на части, мы не найдем в ней ни одной детали, которую бы где-то, когда-то не превзошли уже произведения, лишенные какой-либо художественной амбиции. Но в том, что все недоговорки, намеки, реминисценции, объединенные в целое, превращаются в такой удар, который не дает читателю возможности принять удобную, эстетическую позу; что класс художественной трансформации и логического метода (от первого до последнего слова изложения, язвительного, "самосаркастического" и тем самым высмеивающего даже то, что наиболее мрачно) затрудняет, если вообще не делает тщетной, однозначность моральной оценки произведения (подчеркиваю: произведения, не героя) -- в этом я нисколько не сомневаюсь.
Чтобы "очистить" Набокова от обвинений в порнографии -- во-первых; в копании в психопатологни секса -- во-вторых; в антиамериканизме -в-третьих, критики объясняют, что повесть эта не о сексе, а о любви, что любая тема, в том числе и психическое нутро извращенца, может вызвать эстетические переживания; что, наконец, "Лолита" является не более "антиамериканской", чем книгн многих истинных американцев. Не знаю, стоит ли заниматься такими обвинениями и такой защитой.
II
Повесть не о сексе, а о любви? Повесть-сатира о цивилизации Запада? Но почему герой -- извращенец? Этот вопрос не давал мне покоя. Набоков посчитал бы его лишенным смысла, как я могу предполагать по его взглядам на литературу, ибо он не хочет быть ни моралистом, ни реалистом, а выступает только "рассказчиком чего-то где-то когда-то совершавшегося". Но мы, в конце концов, не обязаны слушать автора, когда он уже произнес слово "конец". Когда сказал то, что хотел сказать. И здесь уже кончаются его и начинаются наши, читателей, хлопоты.
Сначала мне показалось, что выбор героя открывает определенные специфические возможности уже в плане социологическом. Ибо сверх того, что можно и даже нужно сказать, "Лолита", несомненно, повествует о широком социальном фоне, о тех, добавим, сторонах жизни Запада, которыми он гордится. Это и высокий жизненный уровень, и "онаучнивание" воспитания, тот "практический фрейдизм" в педагогическом издании, который стремится к оптимальному приспособлению личности; это и совершенство туристического промысла, внедрение сервиса в самые дикие уголки природы, и эти особые, проявляющиеся в общественных контактах четкие действия с механической улыбкой, должествующей придать им "индивидуальный подход" к клиенту, пациенту, гостю; и такая пропитаиность жизни рекламой, что она из явления, атакующего человека извне в интересах торговой прагматики, давно уже стала интегральной частью его психического мира, проникнув в него тысячами чисто, "научно" разработанных методов. Раскритиковать ее, эту огромную мащину самодовольных муравьев, оскорбить, высмеять непосредственным описанием было бы голой публицистикой, то есть художественной неудачей, говорением банальных очевидностей. Но сделать это вроде бы мимоходом, и к тому же с позиции вроде бы заранее обреченной на неудачу -- устами человека, каждое слово которого, каждый колкий намек можно усилить определением, укаэывающим на его ненормальность, и одновременно так, чтобы этот дегенерат, в сопоставлении с почтенно-иормальным окружением, 6ыл прав -- это уже давало определенную исходную возможность. Этот внешний мир, этот фон, эта посредственность и нормальность, образующие для Хумберта и его скабрезной тайны угрозу, проникают во все уголки повести, сталкиваясь безустанно, безотчетно с ужасностью его "личных, частных" фактов, и холодом своего присутствия углубляют еще сильнее интимность его исповеди. Само по себе такое соседство дает огромную разницу температур, напряжений, создает необходимый груз контраста, после чего приходит проблема следующего и обстоятельнее мотивированного выбора: что представляет собой этот анормальный человек, этот психопат, на чем основана его аномалия?
Чтобы определить разбираемую проблему языком чисто структуральным, касающимся конструктивного скелета внутренних, присущих произведению напряжений, следует заметить, что мономания, как сужение, стяжение определенного типа, может неизмеримо сильно способствовать созданию такой густоты атмосферы, такой концентрации художественных средств, какая не раз уже порождала драматическое novum. Примеров можно было бы привести много: мономаньяками были и Дон Кихот, и Раскольников, и Шейлок, и Дон Жуан.
А сейчас -- проблема психологического "приводного ремня" анормальности, ее концентрирующей силы. Что может стать тем конкретным пожаром, который разогреет всю ткань произведения, придаст его фразе подъемную силу, делающую возможным плавное преодоленне каждого общественного "табу", откроет, наконец, все те темные душевные уголки, которые делает невидимыми мерная повторяемость жизнеиных функций, рутина повседневности? Что может быть более подходящим и одновременно более универсальным, чем любовь? Этот вывод, однако, таит в себе массу опасностей. Воздержимся на минуту от установления "адреса" кумулятивно нагроможденной в герое страсти и остановимся над ней самой. Любовь, эротика, секс. Может быть, все дело в преодолении обязательных условностей, запретов, в вызывающей смелости? Здесь классиком, или, скорее, примером "отваги" может быть "Любовник леди Чаттерлей" Лоуренса. Но эта книга оставила во мне только неприятный осадок. Эти способы "опрекраснивания" актов копуляции, эта рустикальная фалличность, воплощенная в личиости крепкого лесничего ("возврат к природе"!) отдавали не столько "исследованием Кинси о сексуальном поведении человеческого самца", сколько попросту художественной фальшью. Ведь художнику, который хочет показать любовь "с большой отвагой", легко сесть на рифы сладенького сентиментализма. Лоуренс же доверился методу простейшему: он пошел в противоположном направлении.
"Любовь окружена лицемерием и ханжеством, следует показать ее во всей полноте," -- сказал себе автор и взялся за дело. Туда, где до сих пор преобладало piano, приглушение или вообще цезура умолчания, он ввел физиологию. Спор о том, является ли повесть порнографией, горел долго; разрешение этого спора меня мало трогает, ибо -- порнография это или нет -в художественном отношении получился блин. Сначала, сколько мог, автор шел вдоль анатомической дословности, потом надстроил над ней "возвышенные" комментарии, гимиы в честь "красоты обнаженности"; в своей заносчивости он даже на гениталии обратил внимание, но ничего не могло его спасти -- никакая "сублимация как противовес скабрезности" -- от художественной неудачи; при таких предпосылках не убережет писателя ничто, кроме иронии. Почему? Прежде всего потому, что писатель является наблюдателем, невозможным уже из самых глубоких основ эротики. Это слово позволит нам понять одну из самых существенных трудностей в изображении сферы половой жизни. Какими бы способами писатель ни пытался укрыть следы своего присутствия, оно само, представленное любовной сценой, свидетельствует, что он -- в определенном, психологическом смысле -- был там. И это как раз та роковая ошибка фигуры "подсматривающего", которой, собственно, не избежал Лоуренс. Единственный выход -- жанр дневника, воплощение в рассказчика до конца, рассказ от первого лица; к сожалению, это устраняет только половину днссонанса, поскольку второй "подсматривающий", каким выступает читатель, остается на месте. Следовательно, самому участвовать, выражаясь неловко, в половом акте как одному из партнеров -- это нечто совершенно иное, чем на такую сцену смотреть со стороны. Половой акт, чтобы быть избавленным от оттенка малейшей анормальности, должен быть герметично интимным. В литературе, естественно, это невозможно. Отдавая себе более или менее отчет в обязательности введения в границы крайней интимности, какая может быть уделом только двоих, назойливого читателя, писатели прибегали к различным ухищрениям. Результаты же, как правило, плачевны. Поскольку внешний, физический вид копуляции чем-то прекрасным, эстетически возвышенным в книге сделать невозможно, употребляются средства стилистические, которые тут же демаскируют "замазанные" места.