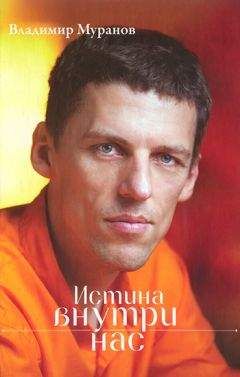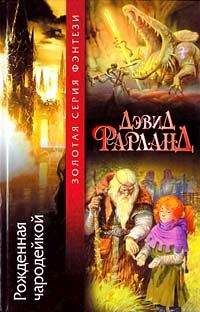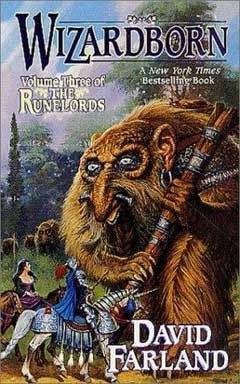Леонид Юзефович - Поиск-83: Приключения. Фантастика
Ему не раз присылали мемуары на рецензирование, и он сочинял эти рецензии легко, быстро, сам удивляясь точности собственной памяти. Когда известный кинорежиссер попросил описать обстановку советского посольства в Лондоне в двадцатые годы, Семченко отстукал ему десять страниц на машинке, вспомнив даже, какого цвета были портьеры на окнах. А незадолго перед тем из журнала заказали очерк о деятельности нашего торгпредства в Англии, где Семченко проработал до тридцать второго года. Он написал его практически за один вечер, сразу набело, почти без правки, и очерк всем понравился — напечатан был без сокращений и признан лучшим материалом номера. А эти злополучные воспоминания он вымучивал целую неделю, маялся, уныло тыкал одним пальцем в клавиши машинки. Потом порвал написанное и отправился на Ярославский вокзал.
И сразу понял, что не зря приехал, когда по Петропавловской, ныне начдива Азина, улице вышел к Стефановскому училищу — тот же розово-красный неоштукатуренный кирпич, железные карнизы, встроенный в правое крыло восьмигранный шатер бывшей часовни. Внутри, конечно, все было по-другому, но по коридору тянулась все та же вечная риска, разделявшая стену надвое — внизу масляная краска, вверху побелка, и эта риска, пережившая революции и войны, тысячи раз виденная в учреждениях любого ранга, вдруг всколыхнула память и на полчаса повергла Семченко в состояние деятельного умиления.
— Пойдемте, покажу вам наш музей. — В вестибюле Майя Антоновна открыла ключом боковую дверь, пропустила Семченко в комнату, сумеречную от плотных штор. — Раньше здесь была швейцарская.
Но он уже и так вспомнил это полукруглое окно, этот выступ коридорной печи слева, низкий сводчатый потолок. В двадцатом году здесь помещалось правление клуба «Эсперо».
Теперь на стене висел портрет Чкалова. Под ним, на тумбочке, стоял большой мятый самовар из рифленой латуни, без крышки.
— Наша школа носит имя Чкалова, — бесстрастным экскурсоводческим голосом объяснила Майя Антоновна. — Мы собираем воспоминания о нем, встречаемся с людьми, лично знавшими Валерия Павловича.
Семченко кивнул на самовар:
— Его собственный?
— Нет… Подарок человека, с которым Чкалов состоял в переписке.
— Он бы вам еще подштанники свои подарил. — Семченко легонько пристукнул палкой по самовару, с удовольствием поймав встревоженный взгляд Майи Антоновны. — Тоже реликвия!
Раньше на палке был резиновый наконечник, но Семченко его снял. Ему нравился четкий стук дерева по асфальту.
На отдельном планшете он заметил фотографию человека в красноармейской фуражке, с кубарями в петлицах. Его лицо показалось знакомым — чернявое, длинное, с длинным острым подбородком, чуть асимметричное от неумело наложенной ретуши.
— Геннадий Ходырев. — Майя Антоновна проследила его взгляд. — Наш земляк… Был начальником погранзаставы в Карпатах, попал в плен, бежал, сражался в маки. Погиб во время парижского восстания. У нас есть его биография, ребята из совета музея писали… Показать?
— Если не затруднит.
Порывшись в шкафу, Майя Антоновна протянула несколько альбомных листов, сшитых по краю красной ниткой. На верхнем наклеена была такая же фотография, как на планшете, только маленькая, а сбоку цветными карандашами нарисован мужчина в набедренной повязке, поднимающий над головой оранжевый комок с лучами и сиянием. «Данко, наверное», — сообразил Семченко.
Начал читать:
«Геннадий Ходырев родился в 1903 году в семье рабочего. С детских лет он познал нужду и труд, помогая в мастерской своему отцу, по профессии шорнику…»
Это было в тот день, когда Вадим Кабаков привел Глобуса.
В три часа, отдав Наденьке перепечатать статью «Как бороться с безнавозьем», написанную одним из уездных агрономов, Семченко отправился на заседание народного суда. Давно следовало дать принципиальную статью о его деятельности, растолковать, что к чему. А то всякие слухи ходили по городу.
Суд заседал в бывшем ресторане Яроцкого. Это одноэтажное, похожее на барак каменное здание стояло у речного взвоза, рядом с театром водников «Отдых бурлака». Ниже теснились причалы — когда-то шумные, а теперь пустынные, ветшающие, со сломанными перилами и щербатыми сходнями. У берега темнела вереница плотов, на них копошились люди с баграми. Шла заготовка дров для городских учреждений. На эту работу направляли беженцев, вернувшихся из Сибири после разгрома Колчака. Решением губисполкома каждый мужчина должен был выгрузить по пять кубов, а каждая женщина — по два с половиной. Лишь после этого беженцы получали документы на право жительства.
Когда Семченко вошел в зал, послеобеденное заседание уже началось. На эстрадном возвышении, за длинным, почти без бумаг столом, который одной своей аскетически пустынной плоскостью способен был внушить уважение к суду, сидели трое, из чего Семченко заключил, что разбирается дело средней важности — в серьезных случаях приглашали не двоих заседателей, а шестерых. В центре перебирал какие-то листочки судья, пожилой слесарь с сепараторного завода. Справа поигрывал пальцами незнакомый усатый кавказец в офицерском френче, слева склонилась над протоколом Альбина Ивановна, учительница из школы-коммуны «Муравейник», входившая в правление клуба «Эсперо». Кивнув ей, Семченко пристроился во втором ряду, с краю.
Судили шорника Ходырева за кражу приводных ремней из паровозоремонтных мастерских.
Сам Ходырев, чернявый, унылого вида мужик лет сорока пяти, стоял на эстраде сбоку. За ним, в полушаге — милиционер. Свидетелей уже допросили. Судья что-то сказал Альбине Ивановне, тыча пальцем в протокол, потом посмотрел на Ходырева.
— Прошу вас рассказать о том, как происходило хищение.
— Брал, значит. — Ходырев тяжело сглотнул. — Там со стороны Преображенской дыра есть в заборе. И в стене дыра. Позапрошлым летом пристрой на кирпич разбирать стали, да не кончили. Досками только забито… И брал, значит.
— Вы утверждаете, будто брали одни обрезки. А вот свидетели другое показали.
— Чем начнется, тем не кончится. — Кавказец ударил смуглой ладонью по ребру стола.
— Говори всю правду, папаня, не бойся! — прозвенел сзади срывающийся молодой голос.
Семченко обернулся — как раз за ним, рядов через пять-шесть, сидела зареванная баба с младенцем на руках, вытирала слезы воротником кофты. Возле нее стоял паренек лет семнадцати, такой же чернявый и невзрачный, как Ходырев.
— Ты расскажи, как из «Рассвета» к тебе приходили! — крикнул паренек.