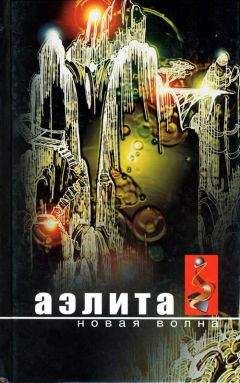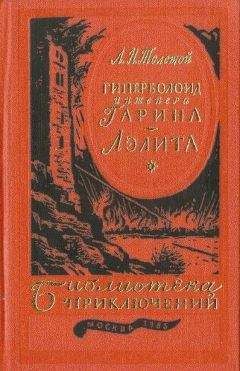Борис Долинго - Аэлита. Новая волна /002: Фантастические повести и рассказы
— Вот, — сказал Хальк. — Привет от замечательных детей.
Ложечка была красивая, с эмалевым черенком. По зеленой траве, под небывало ярким небом, шел паренек и играл на флейте. Мелко и тщательно выписанные детали включали даже черты лица и травинки. Феликс Сорэн с равнодушным видом спрятал ложечку в карман. И попросил не расстраиваться из-за мелочей: детям свойственно так легко всему верить. Особенно если это таинственные приключения и сказки.
— Знаете, а в вашу последнюю сказку весь лагерь взахлеб играет. У Викентия мозги набекрень.
— Извините. Я не хотел.
— Напрасно.
— И вообще, это не сказка!
Сорэн перестал гладить кота. Широкая, но все равно аристократически красивая рука замерла над пушистым загривком. Кот недовольно дернул хвостом, потянулся, щуря глазищи и выпуская когти. Управляющий за шкирку снял кота на пол.
— Брысь, — сказал он и встал. — Слушайте, вина хотите?
Хальк замялся. С одной стороны, вино — это чудно, с другой — пьянствовать правила запрещали. А с третьей, как только здесь зазвенят рюмки, прискачет Ирочка. У нее на зайцев нюх.
— Лучше чаю.
Феличе сходил в дом и вернулся, неся на вытянутых руках нечто. По виду это нечто более всего напоминало помесь самовара с кофейником, сверху заботливо прикрытое кружевной салфеткой. Феличе водрузил бронзовое чудище на стол, принес чашки.
— А… это что?
— Чаеварка.
Из выгнутого носика в чашку полилась черная, глянцевая при свете керосиновой лампы жидкость. Запахло пьяной вишней.
— Эдерский мускат, — сказал Феличе. — Урожай семьсот двенадцатого года.
— Это когда бунт Мелешки?
— Вы историк? — Феликс покачал в ладони чашку.
— Филолог.
— Ну-ну. А в воспитатели как попали?
Прикрытая колпаком матового стекла лампа мерцала, ночные бабочки летели на свет. Хальк молчал. Объяснять не хотелось. Это выглядело бы, как оправдание, а он не чувствовал себя ни в чем виноватым. Видимо, Ирочка права. Рано или поздно все проходит, абсолютно все, даже смерть перестает казаться чудовищной и непоправимой. Человек — такая скотина, что ко всему привыкает. Он вдруг подумал, что, как ни странно, легче ему стало только после злосчастной этой сказки.
— Так получилось.
— Хорошо получилось, — со странным удовлетворением отметил Феликс. — Кстати, возвращаясь к племяннику. Он мне сегодня понарассказывал… Это что, пассивный пласт эйленского фольклора? Я таких легенд не припомню.
— А вы из Эйле? — Хальк ощутил, что начинает злиться. Феличе кивнул и небрежно прибавил, что нынешняя работа для него — что-то вроде развлечения. Способ приятно и нехлопотно провести лето, не особенно мучаясь от безделья. А вообще-то у усадьбы есть хозяин. Между прочим, владелец одного из столичных издательств.
— Вы ведь пишете? Хотите, я возьмусь пристроить ваши рукописи? Но только стихи.
Хальк залпом допил вино. В голове шумело. Он не понимал почти ничего из этой странной беседы. Почему стихи? Это издательство что, ничего другого не печатает? Может, ему взяться дамский роман написать? Да, это будет здорово, тетки на кафедре изящной словесности разом заткнутся.
— А сказку нельзя? Это же не легенды, я сам…
— Нельзя, — сказал Сорэн. — Ни при каком раскладе. Даже и не думайте.
Было в его голосе что-то, что заставило Халька моментом протрезветь. Озноб пробежал по спине.
— Почему? — чувствуя себя последним дураком, тем не менее спросил он.
Феликс откинулся к плетеной спинке стула. Скрестил на груди руки. Помолчал. Потом сказал осторожно:
— Видите ли… Саша. Это все очень красиво, это заставляет ощутить… я не знаю, как сказать. Убогость нашего мира, серость, собственную тупость и трусость. Это красиво и очень страшно. Но пока только на словах. А вот если вы запишете… все эти ощущения можно смело помножить на десять. Не слишком ли? И потом. Вы же слушали курс философии. Помните, как там про бытие и сознание?
— Сознание вторично.
— Ерунда, — сказал Феличе убежденно. — Вот вы представьте хоть на минуту, что своим сознанием вы определяете чужое бытие. И не надо далеко ходить за примерами. Весь лагерь живет теперь вашим сознанием… созданием, если хотите. Но они дети, они веселятся, они не могут долго задумываться о всех… обо всем, что там всерьез. Они ловят призраков и ругают вашего коллегу Краоном. И это закономерно. Вы же не хотите, чтобы сорок пять детей и трое взрослых испытывали такую же боль, какую испытываете вы.
Мотыльки летели на свет. Пахло приближающимся дождем. Малиновая молния расколола небо над террасой. У Сорэна невольно дернулась щека.
— Я. Не. Понимаю.
— Смерть моны да Шер… я соболезную. Простите.
Хальк встал, с шумом отодвинув стул.
— В-вы!.. Кто вам?!.
— Неважно. Кстати, вот вам лишний повод задуматься над тем, как кончаются в жизни страшные сказки. Не придумай вы такого, кто знает, может, она осталась бы жива.
— Прекратите! Я не верю!
— И правильно. — Феликс вдруг широко, ослепительно улыбнулся. Как будто и сам углядел ущербность своих доказательств. — Не верьте. Когда вам скажут. Когда прочтете. Даже когда увидите собственными глазами — все равно не верьте. Есть только иллюзия. Смерти — нет.
Глава 3
…Непонятно, питал давний мастер отвращение к супруге, теще либо ко всему человечеству сразу или стремился устрашить, потому что сам всех в упор боялся, но надо признать, что ему удалось: любой, кто встречался с химерами Твиртове лицом к лицу, испытывал брезгливое отвращение и страх. Не потому, что в этой мифической тварюшке (в каждой по-своему) были смешаны черты змеи, козла и льва — сами по себе эти звери если и устрашающи, то вовсе не отвратительны. Но безвестный мастер учинил с их чертами такое, что может привидеться только в кошмарном сне. А еще он нетвердо понимал, что есть химера, этот мастер, и потому прибавил каждой чешуйчатые бронзовые крылья и грифоний клюв. Из клюва свисало раздвоенное змеиное жало, и создавалось впечатление, что вымышленная зверушка дразнится или облизывается, схрумкав очередную жертву. А может, это был стилизованный огонь. Кстати, последнее сомнительно, так как химеры Твиртове пыхали огнем вполне настоящим. Неведомый умелец проложил в каменных телах тончайшие трубочки, и стоило залить масла зверюшке под хвост и ткнуть в нос зажженным факелом, как из клюва начинало извергаться короткое, но весьма ощутимое пламя. Ночью зрелище могло быть вполне феерическим — три уступа зловещих теней и на равных расстояниях огни. Только вот жителям столицы с воцарения Одинокого Бога любоваться им не приходилось — все забивали проклятые молнии.