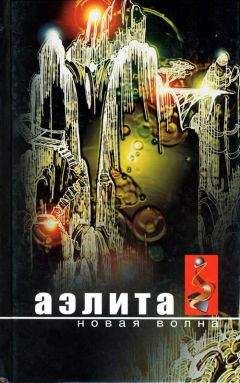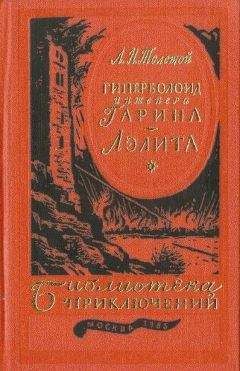Борис Долинго - Аэлита. Новая волна /002: Фантастические повести и рассказы
— А где Гай? — вопросил Сорэн-младший ревниво.
Стали подсчитывать друг друга. Обнаружилось, что не хватает Гая, нескольких девиц, Лаки и Юрочки Доценко, который убежал за пряником. Ирочка приняла решение пока не беспокоиться. Все равно двери усадьбы заперты изнутри, и окна в такую грозу раскроет только сумасшедший. А она не сомневалась во вверенном ей обществе.
В ведре наконец забулькало. Вереницей потянулись жестяные кружки, разномастные чашки и глиняная пиала устрашающих размеров. Не хватало только серебряного блюда эпохи правления Безобразной Эльзы. Но из блюда чай пить неудобно. Александр Юрьевич половником разливал черную жидкость и в каждую емкость самолично бросал кусочек рафинаду, приговаривая, что сахара мало, а любителей много.
— Ну Хальк! — капризно надулась Ирочка, заглядывая в чашку. — Воспитателям положена двойная порция. За вредность.
Александр Юрьевич булькнул ей в чай еще кусок, произнеся историческую фразу:
— Солдат ребенка не обидит.
Кешка вынул зубы из вожделенного пряника и спросил невнятно:
— А почему Хальк?
Мессир старший воспитатель поперхнулся кипятком, едва не опрокинув кружку себе на колени.
— Дети, — взмолился он ненатурально, — дети, вы же «сказоцку» просили.
Дети загалдели, кто-то выключил свет, Кешка выволок из облюбованного ящика несколько поломанных хозяйских свечей. В комнате было тепло, гроза за окнами казалась далекой и не мокрой. Уютно потрескивали свечи, с которых Кешка послюнявленными пальцами снимал нагар. Глаза слушателей были внимательны, и Хальк почувствовал, что не просто так эта сказка, что-то будет… в воздухе сгустилось предощущение. Впервые он без боли вспомнил Алису. Только на Ирочку не смотреть… и хорошо, что Гая нету. В некоторых людях цинизм — как физическое уродство, совершенно непереносимо.
Только это будет не сказка.
…Полукруглое окно с витражными вставками по углам было распахнуто, вишневый свет Ночных молний заливал пространство, и казалось, что покой все еще в огне. А еще это походило на вспышки рекламы, и хотелось зажмуриться и покрутить головой, чтобы перед глазами перестали плавать цветные пятна.
На широком деревянном подоконнике стояло блюдо с вплавленной в мед виноградной кистью. По краю блюда ползала осоловевшая, совершенно счастливая оса. Оса была пьяная в тютельку и никак не желала понять, что уже настала ночь. Несколько раз с гуденьем подлетала на отяжелевших крылах и тут же шлепалась обратно.
— Вечно все ищут обходные пути. Нет чтоб прямо полететь.
Одинокий Бог зачерпнул разбавленный соком мед и, щелчком сбив осу, с наслаждением всосал вытянутыми в трубочку губами. Янтарная липкая капля упала с ложки на клочковатую бороду.
Был одет Рене Краон по-домашнему, в вытянутый красный свитер и болтающиеся на жилистых ляжках посконные штаны, запросто сидел на подоконнике, качал босыми ступнями. Вспышки раскрашивали киноварью золотые, как у Христа, непричесанные волосы.
— И что мне с вами делать, Алиса?
Женщина плечом потерла щеку. Руки у нее были связаны за спиной. Сквозь лохмотья просвечивали синяки. Светил «фонарь» под глазом, распухла губа… в целом мелочи.
— Мона Лебединская, волей Моей баронесса Катуарская и Любереченская, ну чего вам еще не хватает?! Зачем сбегать от жениха?
Он прошлепал к поставцу, щурясь от недостатка освещения, поднес к носу скрипучий пергамен:
— «12 июля, 1389 года. Эрлирангорд… Находясь в здравом уме и твердой памяти я (тут перечисление титулов)… завещаю все свое движимое и недвижимое имущество, заключающееся в (это список, желаете заглянуть?)… благородной моне Алисе да Шер (Рене хмыкнул), моей нареченной невесте, с правом владения, распоряжения, дарения и передачи по наследству…» Личная рука мессира Лебединского, между прочим. Ну, ниже печати Канцелярии Твиртове, нотариуса, личная печать барона и вензели. А вот это, — Одинокий помахал вторым листком, — распоряжение Епархиального управления Канцелярии о признании законным и действительным оглашения помолвки, состоявшегося во второе воскресенье июля в храме Краона Скорбящего на Рву.
Алиса молчала.
— Девица Орлеаньская! Готовитесь стерпеть пытки и даже смерть и ни словом не выдать соратников? — Рене хмыкнул. Трогательно поджал ступню: пол был холодным. — Поймите же! Этот мир создан единственно по Моему образу и подобию. В нем нет для меня тайн. И никто вас спасать не будет. Даже если очень захочет.
Они плавали во вспыхивающем и медленно затухающем вишневом киселе, и ей просто нечего было ему возразить.
— Хотите знать, как оно есть? — Одинокий Бог снова взгромоздился на подоконник. Щедро развел руками, задевая блюдо. Утонула ложка. Возмущенно зажужжала вернувшаяся на мед оса. — Вот это все придумано мной. И я совершенно не собираюсь этим делиться. Конечно. Всегда найдутся недовольные, несогласные, считающие мой мир неправильным. Убогим, серым. Но раз уж он есть, значит, соответствует абсолюту. И поэтому я должен тебя убить.
Рене вытащил ложку за черенок, облизал ее и пальцы.
— В конце концов, у меня есть формальный повод. Поджог Твиртове. Впрочем… Помнишь: «Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог»? Так вот, это не фигура речи. Это реальность, данная нам в ощущение. Даже нет, не так. Мир Слова и мир вещей существуют вроде сами по себе, абсолют обычно проявляется сюда незаметно и естественно, следуя закону кармы.[7] Но этот мир отличается тем, что Слово, универсальное ритмизованное заклинание, абсолютный текст, который есть где-то там, может ворваться в реальность и взрывом, без всякой видимой причины. Вот как ты, например. И перевернуть все, да так, что ни один из нас не уловит изменения. Говорят, храмы Кораблей были точками стабильности… сохраняли память о предыдущих эпохах. Знаешь, я извел их под корень, и людей, и храмы. Понимаешь, Корабельщик говорил, что каждый человек — это корабль. Не раб Божий — корабль! Разве я мог это стерпеть?
Он потер глаза. Голос звучал глухо, устало. Словно Одинокий Бог в самом деле нес на себе всю тяжесть мира.
— Так вот, чтобы изменить… все… сразу… Взрывом… Вторжением… нужно одно-единственное: тот, кто откроет ему ворота…
…Дверь была сломана. Самым зверским образом. Видимо, неизвестные злодеи делали это долго и с упоением, под покровом ночи выдирая из косяка замок. Золотились под солнышком рыжие щепки, широкий луч проникал в дыру, оставшуюся от хитрого устройства, и Гай, сидя перед дверью на корточках, морщился, потому что луч этот бил ему прямо в глаза. Замок валялся тут же, сверкал начищенными деталями, нагло отрицая версию о корысти бандитов. Рядом с замком, возя сандалькой по сырым доскам террасы, стоял Кешка. Голова у Сорэна-младшего была повинно опущена, он сопел, пыхтел и глотал слезы. И молчал как партизан. А Гай, пылая педагогическим рвением, рассказывал брату, какая тот скотина, каторжник, вахлак и оболтус. Это ж додуматься! Чужая вещь, музейная, можно сказать! В общем, счас он позвонит в город, и за Кешкой приедет полиция.