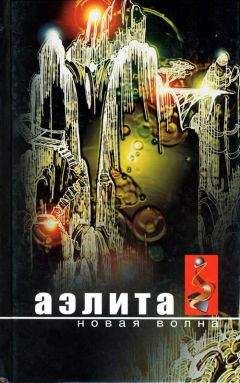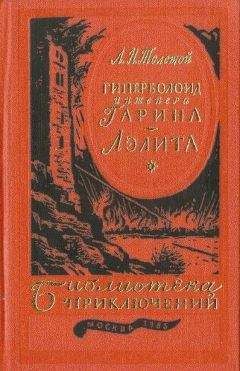Борис Долинго - Аэлита. Новая волна /002: Фантастические повести и рассказы
Кешка помнил эту церковь, заходил в нее с Родой несколько раз и покупал свечи для тети Этель, когда та просила. Когда-то, тысячу лет тому, это была церковь Кораблей… Одинокий Боже, о чем он думает. Ходила к исповеди — значит!..
— Ведь девица Донцова предлагала исповедаться и тебе. А ты сказал, что сходишь в капеллу Твиртове. Ты сходил?
— Д-да.
— Зачем ты лжешь мне, мальчик?
— Я… н-не успел. М-меня…
Адам Станислав положил руку на Кешкино плечо.
— Ничего страшного. Ты мог бы прийти к исповеди теперь. Ко мне.
Кешка дернулся и опрокинул свечу.
В маленькой церкви волнительно пахло воском и ладаном, на дымных столбах лежали солнечные лучи. Кешка хотел преклонить колени перед алтарем — рисунком по мокрой штукатурке во всю стену — Одинокий Бог, то ли возносящийся на огненном столпе, то ли снисходящий на оном к благодарной пастве; но Адам Станислав подтолкнул его к дверце в закристию.
— Девица Донцова призналась мне, что совершила добрый поступок.
Мальчишка оборотил к священнику мокрые глаза:
— Но вы же… обязаны соблюдать тайну исповеди!
— Дитя, не кощунствуй. Это постулат еретической веры. Нашему же Господу должно открывать любое деяние — и благое, и злое. А не узнай я — как бы я мог оказать помощь твоей болящей сестре? Ведь она сильно расшиблась? Может, ей надобен лекарь? И облегчение души, если, по воле Одинокого, она умрет?
Кешка вцепился зубами в ладонь.
— Я не прав? — Адам Станислав распахнул окованную медью дверь, и Кешка очутился почти в полной темноте. Только некоторое время спустя глаза смогли выхватить углы какой-то мебели, пробивающиеся в щели ставен лучи, неподвижную фигуру в кресле у стола.
— Где… она? — этот голос словно придавил Кешку к полу.
— Мальчик нам не доверяет. Я могу его понять.
Худой мужчина в кресле вскинул голову (Кешка сумел различить только движение, не черты лица, но все равно знал: это он, его исчезнувший опальный брат, Феличе, Феликс…). В ладонях его, сложенных перед грудью, стало разгораться сияние — словно затеплилась свеча, словно он держал пушистый огненный шарик. А в этом шарике… да, в этом шарике проступал, светился серебром кораблик, покачивался на малиновых, как шелк, сотканных из сияния же волнах. Кешка задержал дыхание. Это было так невозможно, нелепо, волшебно…
— Я знаю, ей нужна помощь. Помоги.
Слова дались мужчине с трудом, Кешка вообще подозревал, что тот не умеет просить — только приказывать.
— Ты догадался, Кешка, — кивнул священник. — Это Хранитель. Мы очень рискуем, и у нас мало времени.
— Какая болтушка, — сказал Кешка горько…
— А я вас искала, — воспитательным тоном объявила Ирочка. — Александр Юрьевич, вы мне нужны.
Полная луна, проглянув сквозь облака, залила террасу зеленоватым светом. Луна была большая и пухлая, как тронутая плесенью плюшка, и Ирочка в своем сарафане с оборочками на ее фоне казалась крупной летучей мышкой. Хальк потряс головой, пытаясь прогнать наваждение. Наваждение не прогонялось. Наваждение отжало перекинутый через локоть купальник и плюхнулось на плетеную скамеечку перед столом. Только теперь Хальк заметил, что управляющий исчез. И унес с собой лампу. А чаеварка осталась. Хальк в растерянности уставился на бронзовое это чудовище: то ли под стол спрятать, то ли сделать вид, что он тут вообще ни при чем.
— Ой, какая прелесть, — сказала Ирочка, пожирая чаеварку глазами. — Антиквариат. Мне перед управляющим неловко, свалились ему на голову. Да, так вот… — Ирочка дернула носом: из покинутых чашек тянуло пьяной вишней, а бутылки не наблюдалось. Ирочка с сомнением посмотрела на Халька. — Гай сейчас придет.
— Зачем?
— Как зачем? — удивилась Ирочка. — Планерка у нас.
— В два часа ночи?
Ирочка передернула плечиками:
— Я вас не понимаю! Должны же мы обсудить… посоветоваться… вы все равно не спите!
— А очень хочется! — Гай появился и широко зевнул. На нем была байковая пижама с медвежатами, и выглядел он трогательно «до не могу».
— Садитесь, мальчики.
Следующие пятнадцать минут Ирочка развозила о серьезности поставленной перед ними задачи, о воздействии на юные умы… и обо всем прочем, чем славилась кафедра педагогики Эйленского университета. Гай вяло зевал. Хальк, ни на что не надеясь, повернул ручку чаеварки. Но того, что накапало в чашку, вполне хватило, чтобы эти минуты пережить.
— Короче, — сказал Гай. — Чего надо?
— У вас, мальчики, безобразие творится. Дети бегают сами по себе.
— А ты хочешь, чтобы они сами по мне бегали?
— Я хочу, — пояснила Ирочка терпеливо, — чтобы их досуг был занят. Умственно-полезной и развивающей общественной деятельностью.
— Они отдыхать хотят, — сообщил Гай. — И я хочу. И вот он — тоже хочет.
Хальк поднял глаза. Луна отразилась в них. С такими глазами идут на крест. Но дети — это же не крест, это же счастье, подумала Ирочка. И большая ответственность. Так что повод затоптать в себе угрызения совести у воспитательницы имелся.
— В общем, так, мальчики. — Она хлопнула по столу ладошкой. — Дети у вас бесхозные, катаются на чужих лошадях и играют в несанкционированные игры. А мы, как педагоги, обязаны взять все под контроль и руководство. Пускай играют. Но под присмотром. Поэтому вы, Саша, сейчас напишете примерный сценарий этой вашей… сказки, мы выберем актив, распределим роли и будем работать. Вот вы, Гай, кем хотите быть?
— Спящей красавицей.
Ирочка шмыгнула носом, помолчала и разревелась. «Мальчикам» стало стыдно. Сидят тут, мучают бедную девушку… она же не виновата, что такая дура.
И они стали набрасывать примерный сценарий.
Глава 4
…Адам Станислав в раздумье погрыз кончик пера. Эта привычка сохранялась у него с детства, и он ничего не мог с ней поделать. Губы у него уже были черными, и отмыть их потом стоило больших усилий.
«Иногда актом воли является следовать обстоятельствам», — записал он на полях. Отложил погрызенное перо, вернулся к последним строчкам трактата. «Никто из предстоятелей за всю историю Церкви не отвергал постулат, что человек — суть Книга, которую пишет Господь. Здесь возникает кажущееся противуречие со свободой воли, дающей личности возможность творить свою — да и чужие Книги — по-своему, иногда в согласии с божественным замыслом, а иногда в полном его отрицании. Господь не мог, создавая абсолютный текст, не заметить этой ловушки. Признание такового вообще отвергает основы вероучения». Адам Станислав прислушался. По дому гуляли летние сквозняки, разгоняли душный вечерний воздух. Пахло маттиолой из сада. Покачивалась тяжелая занавесь на полуоткрытой двери. К трактату возвращаться очень не хотелось. Он подумал, что вымучит еще десяток строчек и попросит у экономки чаю. Замечательная женщина его экономка: молчаливая и совсем неграмотная. «Суть же не в самом тексте, а в приближении оного к божественному замыслу, что позволяет ему в зависимости от такового с большей или меньшей вероятностью и точностью воплотиться в тварном мире. Полное созвучие текстов человека и божества есть резонанс, каковой согласие…» Мелодия родилась, как ландыш в лесной глуши, выпорхнула из-под крышки виржинели робким ароматом, развернулась и взлетела. Предстоятель замер. Почему-то чудился летний дождь — такой, когда сквозь тучи солнце: «царевна плачет». Только кроме солнца и дождевых капель падали ландыши, душистой грудой устилали и траву, и голую землю.