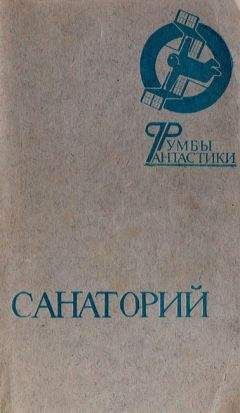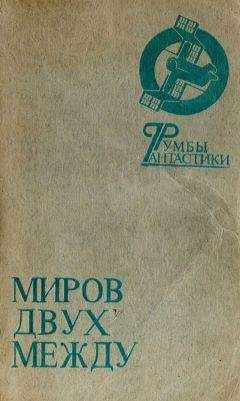Павел Амнуэль - Ветер над яром (сборник)
Вопрос. Был ли Воронцов ранен случайно? И что он рассказал?
Ответ. Я уже говорил, что Воронцов пока не пришел в сознание.
Вопрос. Группа ученых, о которых здесь говорилось, — эта группа маньяков и преступников. Сегодня в газетах опубликованы сведения о прошлом Льюина и Сточерза. Льюин — убийца, Сточерз — растлитель. Разве можно верить тому, что они говорили?
Ответ. Обратитесь в редакции газет, опубликовавших информацию”.
* * *“25 сентября. Нью-Скоп. Юнайтед Пресс. Покончил с собой, выбросившись из окна, писатель-фантаст Генри Прескотт. Полиция обнаружила письмо, оставленное самоубийцей: “Если не мы, то кто же? Если не сейчас, то когда же?” Как стало известно нашему корреспонденту, сутки назад Прескотт передал своему издателю рукопись нового романа. Однако, по словам издателя, рукопись бесследно исчезла”.
* * *— А Рейндерса и Пановски я не нашел, — сказал Портер, включая дисплей. — И Жаклин тоже. Такие пироги, граф.
Воронцов полулежал в постели, затылок ныл, все еще поташнивало, хотя врач сказал, что сотрясение мозга не очень сильное, но ударился он крепко. Но было бы хуже, если бы он получил пулю.
— А Дженни? — спросил он.
— Проф был прав, ее приняли за Жаклин. Дженни сейчас у меня дома. Ей дали выпить какую-то гадость, и она все время плачет. Черт бы их всех побрал, Алекс, черт бы побрал их всех и этот мир в придачу!
— Ну, Дэви, — запротестовал Воронцов.
— Алекс, вы утром улетите, и в Москве вас поставят на ноги. И вы будете там рассказывать, и думать, и писать. Я тоже попробую что-нибудь опубликовать. Но совершенно не знаю, что делать потом. Как жить? У меня чешутся руки на эту мразь из Бюро, и на всех Стадлеров, и на ученых тоже, хотя они, может, меньше всего виноваты. И мне страшно, что у меня такие желания, потому что идут они оттуда, из глубины, от гена этого запирающего, а не от разума.
— От разума, Дэви, — сказал Воронцов, — от разума.
— Господь с вами, — вздохнул Портер. — Все-таки нам трудно понять друг друга, даже если мы хотим одного и того же…
— Парадокс, а? — усмехнулся Воронцов. — А чего, собственно, вы хотите, Дэви?
— Знаете, Алекс, — сказал Портер медленно, — за эти дни я стал другим… Правда. Пять дней назад я бы ответил… Сейчас не могу. Я… Только не смейтесь. Я хочу, чтобы была Вселенная. И чтобы мы, люди, были тоже. Алекс, я решил жениться на Дженни. Но сначала опубликую материал. Чтобы, если меня, как Крафта… Чтобы Дженни была в стороне. Вот о чем я думаю, Алекс. Льюин этот… он стал, в сущности, жертвой совести.
— Скорее непонимания, — возразил Воронцов. — Он рассуждал, как…
— Нет, Алекс, совести. Есть ген агрессивности, но, я знаю, есть и ген совести. И это тоже закон природы, и без него тоже нет жизни. Часто агрессивность сильнее совести. Может, так нужно для развития вида? Но ведь если совесть уступает, то и развитие идет наперекосяк. Но худо и другое — когда совесть не дает жить, когда чувствуешь себя в ответе за каждую букашку на Земле, и каждую песчинку на Марсе, и за каждый вздох какой-нибудь шестикрылой красавицы в созвездии Антареса…
— Нет такого созвездия, — механически сказал Воронцов.
— А, черт, какая разница… Когда на весь наш род смотришь с этих позиций, тогда и понимаешь смысл жизни. Не нашей, потому что наша, человеческая жизнь, Алекс, не имеет смысла без всего этого… Искать смысл нужно не в нас, а гораздо шире. Человечество — бомба? Мы мчались вперед, ничего не понимая, а теперь поняли…
— Что поняли? — сказал Воронцов. — Что все прошлые войны и революции были из-за этого запирающего гена? Ну и каша у вас в голове, Дэви!
— Не будем спорить, — торопливо сказал Портер. — У вас там свои взгляды на историю. Но совесть — она едина, и она спасет мир.
— Один ваш совестливый уже пытался спасти мир, — хмуро сказал Воронцов. — Не нужно, Дэви, теоретизировать, это не ваша область.
— Да, да, я понимаю… Ухожу. Я и так заговорил вас. Не прощаюсь, вечером позвоню… Кстати, это была хорошая идея — объявить, что вы без сознания. Внизу мои коллеги — человек сто…
Воронцов долго лежал с закрытыми глазами. Кажется, входила медсестра и делала укол — он не обратил внимания. Уличный шум усилился и резал слух — или это у него шумело в ушах? “Домой”, — думал он, и только это слово видел перед собой, оно принимало разные обличья, то представая лицом Ирины, то вспыхивая радугой над домами Калининского проспекта, то слышалось тихим смехом дочери, то многоголосьем митинга на Пушкинской, и все это было одно слово…
* * *Портер вышел на улицу и остановился. За руль садиться не хотелось. От коллег удалось смыться — через кухню и черный вход. Он раздумывал. Что-то он делает не так. Слишком много суеты. Искать того, искать этого. Привычка репортера. Может быть, прав Алекс с его русским максимализмом?
Портер вдруг представил себе, что дома вокруг медленно плавятся в полной тишине, а капли бетона, почему-то огромные, как дирижабли, плывут по воздуху и не падают, а летят в небо, разбухая, и люди на тротуарах тоже превращаются в капли и плывут, сливаются друг с другом Небо становится тяжелым, воздух сгущается, оседая на землю, которая расступается, поглощая все, и мир становится хаосом. И что же это, господи! Для того, чтобы сделать такое, и существовал человек?
“Я смогу написать это, — подумал Портер. — Нужно только найти Патриксона, космолога До него вряд ли добрались, тихий ученый, на “Лоусон” работали тысячи… А он обо всем догадывается и сможет объяснить. А я напишу О том, что человек, будь он сто раз запрограммирован природой, обязан прежде всего быть человеком. Искать выход. Найти его”.
Портер глубоко вздохнул. Он уже представил себе пер вые страницы, готов был хоть сейчас надиктовать их. Репортажи его и Воронцова дополнят друг друга. Они будут по-разному оценивать факты, чтобы сойтись в главном И обязательно нужно ударить по будущему оружию. Остановить сейчас. Попробовать остановить.
Лев Вершинин
САГА ВОДЫ И ОГНЯ
I
Я, Хохи, прозванный Чужой Утробой, сын Сигурда, владетеля Гьюки-фиорда, расскажу о том, что было со мною и спутниками моими после того дня, когда направили мы на север бег коня волны. Вас зову слушать, братья мои Эльдъяур и Локи, сыновья моего отца, не любившие меня. И вас, побратимы, что пошли со мною, не принужденные никем. И тебя, Бьярни Хоконсон, скальд, последний из нас, кто еще жив, не считая меня самого. Трудно говорить о необычном: ведь много серых камней-слов хранят люди, но не каждому дан премудрыми асами1 дар слагать из них кёнинги, сверкающие на струнах подобно алым каплям в венцах конунгов2 Юга; оттого мало саг сложено людьми. И вот, не обученный украшать слова, тебе говорю я, Бьярни, спутник мой, рожденный от семени славного скальда Хокона: возьми детей языка моего и уложи их по-своему, как подскажет тебе кровь отца, уложи одно к одному, чтобы под небом фиордов засияла новая сага, сага воды и огня…