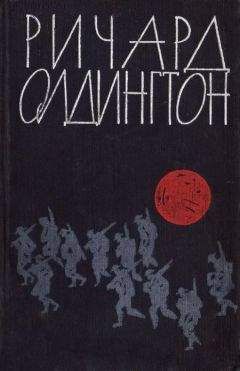Иннокентий Сергеев - Либретто для жонглёра
Кто повернёт ветер вспять? Каждый из дней рождается заново, и нет такого дня, который бы повторял предыдущий. Воскресение - это не возврат к прежней жизни, но обретение новой. Тот, кто пренебрегает временем, пренебрегает и прошлым, и нет для него ничего, что умерло бы, если оно живо, и нет света, который бы померк. В доме вечности сквозняк не задувает светильники.
- Сколько, по-вашему, куполов у этой церкви? Я обернулся и обнаружил, что рядом со мной стоит незнакомец, на вид моего возраста. Лицо его было скорее приятным, нежели красивым. - Три купола, - сказал я. Он, казалось, обрадовался моему ответу. - И откуда бы вы ни смотрели, вы всегда будете видеть только три купола, - сказал он. - И всегда одинаково. Вы перемещаетесь, а церковь не меняется, и ей безразлично, с какой стороны вы смотрите на неё. Она всегда одинакова. Она словно бы разворачивается... - Как подсолнух за солнцем, - брякнул я. Он вздрогнул. - А разве куполов не три? - спросил я, желая загладить грубость. Он покачал головой. - Так сколько же? - Пять, - сказал он. - Но расположены они так, что откуда бы вы ни смотрели, если вы смотрите издалека, вы видите всегда три из них. И никогда не видите все пять куполов одновременно. - Я уже не говорю, - добавил он, - о том, что церковь эта видна отовсюду... - Как водонапорная башня, - сказал я с усмешкой и отвернулся чтобы уйти. Он поспешил за мной. - Прошу вас, не смейтесь же над этим! Мы вышли на укатанный снег дороги. - Вы хотите прогуляться со мной вдвоём? - спросил я несколько бестактно. - Если вы возражаете... - смутился он. - Напротив, - поспешил я исправиться. - Это очень любезно с вашей стороны.
Мы шли молча. Потом он заговорил, и я понял, что он хочет продолжить разговор. Мне этого не хотелось, я боялся, что мне придётся сказать то, что и так очевидно. К тому же, я вообще не люблю говорить о церкви. - Вот и не верь после этого в благодать, - сказал он. И тогда я не выдержал и скорбным голосом сообщил то, что и так очевидно. - Это неинтересно, - отмахнулся он. - Слишком просто. Существует же, наконец, вера в чудо. Я, ссылаясь на Паскаля, возразил ему, что вера в церковь и вера в чудо не одно и то же. Он настаивал на том, что одно поддерживает другое. Я сказал: "Это не так". Но спорить мы не стали. - Церковь, как и Бог, требует женской любви, - сказал он. - Если ты родился мужчиной, тебе труднее быть религиозным человеком, но зато и плоды... - Не нужно объяснять. Я знаю. Ребёнок - чадо Божие. Великая Мать. Нарцисс... - Нарцисс? - удивился он. Потом мы зачем-то стали толковать о католической церкви. - Папа всегда был активным политиком, - сказал Александр (к этому времени мы уже познакомились). - Иначе и быть не может, - сказал я. - Организация, обладающая властью над умами стольких людей, не может оставаться в стороне от политики. Разве что Достоевскому могла придти в голову такая наивная мысль. Но вопрос в том, свою ли политику проводит церковь, или она не более чем придаток государственной машины. Александр бросился защищать Достоевского. Я принялся язвить и довел его чуть не до слёз. Мы проговорили весь день и весь вечер и почти без остановки спорили. Кончилось тем, что он остался ночевать у меня, потому что метро было ещё закрыто, а нам обоим хотелось спать.
Я забыл про замёрзший мир, оставшийся за окнами, впервые с того дня, когда я потерял Элиссу, когда чужие люди увезли её и затворили от меня в зловещих катакомбах больницы. Я держал в руках этот странный проект и не мог оторвать от него глаз, и всё держал перед собой одну и ту же страницу. Так бывает, когда внезапно всё тайное, что было лишь неясным волненьем, которое заставляло тебя рыдать при звуках божественной музыки и быть сентиментальным... вдруг воплощается во что-то зримое, и в смятении ты впиваешься в это чудо взглядом, и время исчезает, и ты молчишь, не в силах нарушить молчание, ты потрясён... Такой увидел в Риме Гёте свою Юнону. Таким увидел я этот дворец, его порталы, колоннады, лестницы, - его нельзя называть по частям, он весь - одно целое, единый вздох, вспышка молнии. Тем временем Александр разливал по чашкам чай, крепкий до терпкой горечи. - Нравиться? Я молча посмотрел на него, не в силах говорить. А потом прошептал: "Это чудо". Он кивнул: "Увы, чудеса живут в сказках. Среди людей им нет места. Пей чай". - У тебя просто плохое настроение, - сказал я. - Вчера ты говорил по-другому. - Мало ли что я говорил. - Но если ты знал, что это никогда не будет построено, зачем же ты... - Знал, - сказал он. - Ну и что. Я архитектор. Не потому что у меня диплом, а просто потому что я - архитектор. - Скажи. Этот проект полностью готов? - Пожалуйста, бери и строй хоть сейчас. - И ты не пытался... - Нет, - сказал он. - В этом мире таких дворцов не строят. - Но иногда пытаются. - А толку-то! - Ты отдашь мне его? - спросил я. - Зачем? - Не знаю. - Пусть лучше останется у меня. Тогда ты будешь заходить почаще. - А вдруг я построю его? Он подлил себе чаю. Взял сухарик. Откусил кусочек, пожевал, отхлебнул из чашки. Потом сказал : "Бери, если так хочешь". Я бросился к нему целоваться. Потом бежал по улице. Зачем бежал? Во мне всё прыгало, ходило ходуном, я не мог успокоиться. Ночью я вернулся к нему. - Нужно составить смету, - сказал я. - Поможешь мне? И мы просидели с ним до утра за работой. Стоимость оказалась чудовищем. Александр помрачнел. Или он просто устал от бессонной ночи? Сколько мы выпили за ночь чая? Все его запасы, это сколько? Я уже не мог отступиться. Это было невозможно, нет. - Ничего, сейчас сократим. И мы сократили её в два раза. Но всё равно было слишком дорого. Хотя, вот курьёзно: что означало слово "слишком"? Какие цифры я надеялся получить? Мы позавтракали сырыми яйцами и отправились в магазин за чаем и сигаретами. Потом я ездил в больницу к Элиссе, а когда вернулся, мы продолжили работу. Три дня я жил у Александра, под конец мы стали похожи на помешанных. Мы подмигивали друг другу, смеялись чему-то, заражаясь смехом друг от друга, бормотали бессвязные речи. Я, помнится, всё грозил ему пальцем и говорил: "Вот увидишь. Своими глазами увидишь". Он, кажется, соглашался, посасывая кусочек рафинада, нахмурившись, листал альбом. Говорил: "Ладно, ладно, увидим". Мы спали, не раздеваясь, прямо в одежде, не расстилая постели. Спали, когда валились с ног, просыпались, заваривали чай, рассказывали друг другу всё, что только могли рассказать, смеялись, пересказывали книги, наперебой восхищались чему-то, доходя чуть не до слёз. И снова работали. Александру удалось изменить проект совершенно, при этом не изменив ничего. Мне это казалось чудом. Сотворив его, он сказал: "Всё. Больше ничего нельзя сделать. Больше сам Господь не сделает". Он очень твёрдо это сказал. И я понял, что большего сделать невозможно. - Ничего, - сказал я. - Теперь это вполне осуществимо. И повторил ещё раз: "Вполне осуществимо".