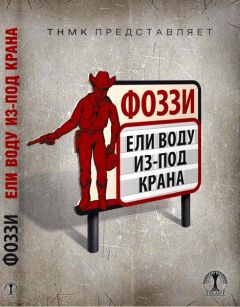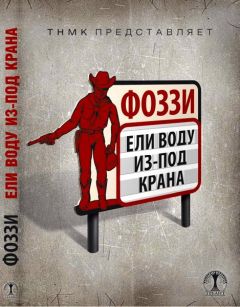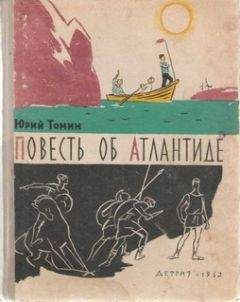Михаил Савеличев - Самурай
Я лишаюсь ребенка, но обретаю друга, а возможно, и врага, я навсегда теряю право отвечать на сакраментальный вопрос — что вы имели в виду, создавая это произведение? То, что я имел в виду, уже не имеет к нему никакого отношения, с таким же успехом можно задать встречный вопрос — что вы имеете в виду, когда смотрите на эту картину? Мы теперь равноправны, мы имеем одинаковое право на нее, на ее интерпретацию, на критику, на ругань, на плескание серной кислоты и удары ножа.
Как не жутко звучит, но все теперь будет к лучшему, долой статику, долой мертвое умирание в музеях и частных коллекциях, долой умиротворение и восхищенное пускание слюней на воротник, долой вежливость и уважение к титанам и богам, ведь мы равны; чтобы оценить что-то, нужно этого лишиться и, желательно, окончательно и безвозвратно, вот тогда мы и поймем важное, главное в картине, тексте; нет ничего гениальнее ненаписанных и уничтоженных картин и книг.
Я осознаю необходимость смерти и готов принять ее, впустить в созданный лакированный мирок тех, кто помогут выяснить его устойчивость, его жизнеспособность, и у меня нет времени ждать девять месяцев и даже девять минут, нужно работать, рисовать, забывать и лишаться, и начну я немедленно, но для этого нужен поезд, неважно в какую сторону, заманчиво оттопыренный карман и человек, самый реальный человек в здешнем царстве силуэтов.
Начался очередной человеческий прилив, подчиняющийся немыслимо сложному клубку самых разнообразных, но несомненно коррелирующих событий, как то — окончание рабочего дня, движение троллейбусов и автобусов по и вне расписания, метеорологические условия, время захода солнце и лунная фаза, которые вкупе приводят к тому, что строго через семь минут платформа заполняется людьми, на зеленом табло загораются нули, наверняка самые реальные управляющие мировыми событиями, и к платформе подплывает хищно приплюснутая стрела электрички, остроумно размалеванная под акулу, брюхо ее лопается, и она жадно поглощает нас всех, таких вежливых, тактичных, уважающих старость.
Народ рассаживается, развешивается, устраивается, добродушно и доброжелательно смотрит на вынужденных соседей и бдительно следит что бы случайно не коснуться кого-нибудь. Шуршат газеты и книги, пищат компьютеры, двери закрываются, все крепче ухватывается за рукоятки и прочие анатомические выступы салона, слышится долгожданный гудок, и поезд набирает скорость. Картина за громадными окнами смазывается, как-то сереет, теряет привлекательность, люди скучно уставляются в только им ведомые точки, опять же стараясь ненароком не наткнуться на блуждающий взгляд соседей. Мне кажется, что задайся некто подобной задачей — расставить людей так, чтобы из глаза не встречались друг с другом, то ему бы пришлось очень долго ломать над ней голову, если вообще не признать ее неразрешимой. Здесь же все достигается на уровне автоматизма.
Наконец, аляпистый мир хрустальных ламп, мрамора и золотой лепнины стянут с поезда, словно носок, на мгновение воцаряется такая важная для меня тьма, вспыхивает свет под выгнутым потолком вагона, и я с некоторым разочарованием убеждаюсь, что мой карман нисколько не облегчился — его все так же оттягивает кожаный мешочек с золотыми монетами, пересыпанными мелкой крошкой аметистов и чароитов.
Странно, я начинаю разглядывать в стекле смутное отражение салона, пытаясь абстрагироваться от лунного пейзажа подземных пещер, витков проводов и умопомрачительных по толщине прозрачных труб, в которых и ползают электрички как огромные светящиеся черви океанских глубин. Приходится напрячь глаза, внимательно просмотреть каждый силуэт, а это более трудная задача, чем найти предателя на тайной вечере. Почему-то воображается, что мой реальный герой должен выделяться в толпе, светиться внутренним одухотворенным божественным светом, как не кощунственно подобное звучит по отношению к нему, но никаких выдающихся личностей я не замечаю — обычные лица, умело нанесенные парой легких мазков, что на расстоянии создает иллюзию их тщательной прорисованности, характерности.
Приходится оглядеться по-настоящему, делая вид, что ищу старых знакомых или более удобного местечка для созерцания заоконных красот, собирая на сетчатку более точные фотографии, чтобы потом, опять задумчиво глядя в никуда, мысленно перебрать их, откидывая заведомо неподходящие, откладывая в сторонку очень и очень подозрительные. У меня копится внушительная колода подозреваемых, которых необходимо еще более тщательно просеять, но тут я внезапно натыкаюсь на него и восхищаюсь собственной глупостью и его артистизмом. Первая и последняя заповедь — быть незаметным, слиться, раствориться даже в самой яркой и в самой блеклой толпе, пригасить искру расчетливости, придать рукам неуклюжесть, телу неповоротливость, но, опять же, не чрезмерную, а в самый раз, на тонкой грани достоверности, реальности. Мы с ним в чем-то похожи — ведь он тоже творит искусственную, иллюзорную реальность, но уже из самых обычных людей, заставляя их видеть то, что нужно ему, чувствовать самые обычные прикосновения, даже в самые решающие моменты — искусство и гениальность порой принимает удивительные формы.
Мне хочется им любоваться — его мимикрией, серостью, обычностью, расплывчатостью — ни одного шевеления, дерганья лица, могущих потрескать подсыхающую краску картины и выдать его с головой. Я чувствую родство наших душ, нашу плоть и кровь, а не скипидар и масло, и поэтому он обречен, так как чувствует тоже самое, ему чудится некая странность в окружающих его людях, он жмется ко мне, стоя за спиной и дыша в затылок. Я мог бы даже не вывешивать угрожающего вида зазубренный крючок с нацепленной на него приманкой, он и так бы зацепился на него, повис на нем, но должна быть благодарность в этом моем мире, могу же я позволить хоть небольшую сатисфакцию, если только ему очень и очень повезет, но тут я не властен.
Теперь внимательно слежу за ним, стараясь не пропустить сакрального момента, хотя в нем должно быть что-то унизительное, то, что лучше всего и не знать, но меня разбирает откровенное любопытство — я изучаю реальную жизнь в своем придуманном мире. Напрягаю мышцы бедра, незаметно перемещаю руку к карману, полностью сосредотачиваюсь на тяжести в нем, но это бесполезно — поезд плавно поворачивается, на несколько секунд гаснет свет и этого вполне достаточно для того чтобы все произошло согласно задуманному плану.
Сейчас я разочарован своей рассеянностью — все-таки не удалось в полной мере уловить горький привкус бытия, но я мысленно хлопаю в ладоши и кричу: «Браво!», даже хочется повторения трюка, но мы приближаемся к станции, поезд врывается в блистающий мир несуществующего будущего, подготовленный мной по такому поводу, чем-то напоминающий огромную хирургическую операционную с белым кафелем на полу, ярчайшими софитами под потолком, хрустально чистым воздухом, тишиной, топящей все звуки в губчатой поверхности потолков и стен, блестящим металлом лифтов, упрятанных в большие вертикальные трубы с косыми концевыми обрезами, такими же трубами, но уже наклонными для не спешащих пассажиров, предпочитающих убаюкивающий эскалатор перегрузкам реактивных подъемов на земную поверхность.