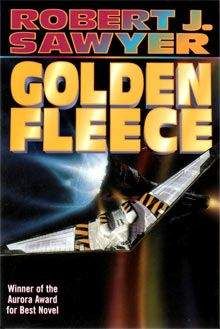Николай Соколов - Ариасвати
Сначала я хотел мести. С этой целью я припоминал и записывал мельчайшие подробности происшествия, я хотел, чтобы, ознакомившись с ними, ты был в состоянии отомстить за меня. Но чем больше я вдумывался в события, предшествовавшие роковой катастрофе, тем более замирало во мне чувство злобы и мести, и теперь я хочу только одного, чтобы бесследно не пропало для мира то, что я узнал и что кроме меня никто уже рассказать ему не может. Рукою умирающего, на тебя возлагаю я эту обязанность: во имя старой дружбы, во имя воспоминаний детства, во имя священных стремлений юности передай миру то, чего не в силах уже передать мой коснеющий язык. Я поручаю тебе в полное распоряжение все мои бумаги и письма, по которым ты легко восстановишь все события моей жизни, все те странные, даже невероятные открытия, на которые натолкнула меня судьба. Я передаю тебе также все планы, чертежи и вычисления, с помощью которых, если захочешь, ты можешь построить новый Гиппогриф и на нем проникнуть туда, откуда я был позорно изгнан. Я хотел бы от всей души, чтобы ты восторжествовал над моим счастливым соперником, но берегись: он обладает такой силой, о которой у нас, в Европе не имеют понятия и которая, как ты увидишь из этих бумаг, встречается только в одних трущобах Индии.
Разбери же эти бумаги терпеливо и внимательно и ты узнаешь все, в подробности. Собери отрывки моих дневников, приведи в порядок письма. Я знаю, это потребует много времени и труда, такого труда, который мне уже не по силам, но будь уверен, что ты не потеряешь времени напрасно. То, что ты узнаешь из этих бумаг, вознаградит тебя вполне за потраченный труд. Я скажу даже более: твое имя, наряду с моим, будет жить в отдаленном потомстве, будет сиять во тьме веков вместе с именами тех гениев, которым мир обязан великими открытиями на пользу человечества…
Не думай, что я сошел с ума перед смертью, что у меня развилась мания величия, что во мне говорит теперь болезненное, доведенное до крайности самообожание. Нет, мой друг, я никогда не страдал этим недостатком и к несчастью все еще нахожусь, как пишется в духовных завещаниях, "в здравом рассудке и твердой памяти". Ты помнишь, что я не был честолюбив, не желал играть не только первенствующей, но даже сколько-нибудь выдающейся роли. Одно только было для меня дорого: я только хотел сохранить свою независимость. Я не изменился и впоследствии. Но отчего же умирая не сказать о себе правды? Неужели, из боязни быть обвиненным в самомнении, я должен надеть на себя личину ложной скромности и придать своему открытию меньшее значение, чем оно имеет в действительности? Нет, я не буду лицемерием унижать последних немногих остающихся мне в жизни минут.
Я прямо и смело говорю, что мое открытие должно составить новую эру в жизни человечества. Я ставлю его на одинаковую высоту с изобретением книгопечатания и утверждаю, что если последнее завоевало человечеству область мысли, бывшую до него достоянием немногих, то мое открытие расширило эту область до бесконечности: благодаря моему открытию нет более тесных, узко определенных границ, в которых, как в заколдованном кругу, вращалась бедная человеческая мысль, прикованная к земле и не имевшая силы подняться над дольним прахом. Теперь для нее нет более расстояний, нет недоступных заоблачных высот. Она смело может парить над областью громов… Но, кажется, я начинаю уже заговариваться… Неужели ум у меня уже мешается? Должно быть, на него действует страх близкой смерти. Ради этого ты, конечно, простишь мне, старый друг, мою самонадеянную болтовню. Но все же я продолжаю думать, что в этой болтовне нет ничего, кроме правды.
Но довольно писать. Голова моя тяжела, перо выпадает из бессильной руки. Я чувствую, что с трудом доберусь до моей постели…
Прости, мой друг. Я хотел бы много тебе написать. Как жаль, что тебя нет теперь со мною! Я сказал бы тебе, что я всегда любил тебя, что я уверен, что и ты платил мне тем же. Пока прости. Я напишу тебе об этом завтра.
* * * 10 апреля.Друг мой! Я не могу более писать. Наверно, я умру сегодня. Позаботься о моей бедной матери. Прощай.
Твой А. Грачев.
Долго я читал и перечитывал это письмо, напрасно отыскивая в нем ответов на те вопросы, которые возникали во мне относительно последних событий жизни покойного. Откуда именно был он изгнан и изгнан, — как он сам писал о себе, — с позором? Значит ли это, что островом Опасным[3] завладело другое лицо? Или здесь подразумевалась другая, еще более таинственная страна, быть может, открытая моим другом в его воздушных путешествиях? Что это, наконец, за личность, которую он называет своим счастливым соперником, предупреждая при этом, чтобы я остерегался этого человека, потому что он обладает какой-то особенной таинственной силой, неизвестной у нас в Европе? Затем — опять загадка. Покойный поручает мне постройку нового Гиппогрифа: не значит ли это, что старого уже не существует? Куда же он девался? Уничтожен ли он в силу какой-нибудь роковой случайности, не предусмотренной его владельцем, или его захватил тот же счастливый соперник? Все эти вопросы письмо оставляло открытыми, и только одно казалось ясно и несомненно, что было какое-то страшное несчастье, случилась какая-то катастрофа, которая с такой силой разразилась над моим бедным другом, что в конец подорвала его жизненную энергию, и ему ничего более не оставалось, как только умереть.
Я торопливо принялся пересматривать лежавшие передо мной бумаги, надеясь немедленно разрешить все эти вопросы. Но каково было мое разочарование, когда из самого поверхностного обзора я убедился, что бумаги эти, так аккуратно подшитые одна к другой и перенумерованные, в действительности представляли совершенный хаос, как по времени, в котором они были расположены, так и по самому своему содержанию.
Между датами двух писем или бумаг, помещенных рядом, оказывалась часто более чем десятилетняя давность. При этом попадались обрывки дневников, письма и записки совершенно без всякой даты, на других были выставлены числа месяца, но не обозначен год, наконец, иные были помечены только днями недели, как будто дни эти "были без числа", как у гоголевского Поприщина. Чем более я всматривался в этот хаос бумаг, переходя от одной связки к другой, тем настойчивее меня преследовала мысль, что бумаги эти были кем-то умышленно приведены в такой беспорядок, как будто с целью затруднить пользование ими.
Признаюсь, я был почти убежден, что этим кем-то мог быть именно только обладатель гербовой печати, "вступивший в права наследства" после умершего Андрея Ивановича. На это подозрение меня натолкнули два следующих обстоятельства. Во-первых, в "препроводительном" письме своем он сам упоминает, что пересматривал эти бумаги с целью убедиться, не заключают ли они чего-нибудь клонящегося ко вреду его наследственных имущественных прав, а во-вторых — как тщательно я ни пересматривал все эти связки, я ни в одном из них не мог отыскать ничего похожего на чертежи и планы, о которых упоминал мой умерший друг, поручая мне соорудить новый Гиппогриф.

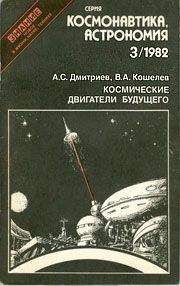
![Георгий Мартынов - Каллисто [Планетный гость]](/uploads/posts/books/56691/56691.jpg)