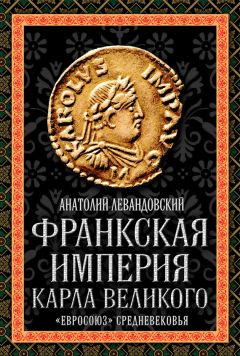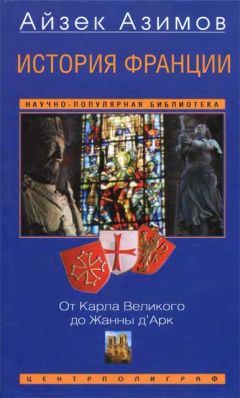Юрий Нестеренко - Приговор
Но мой вопрос был проигнорирован. Босоногий арбалетчик что-то
обдумывал, и я хотел уже воспользоваться паузой, чтобы попросить
все-таки опустить оружие, но меня опередили:
— Значит, у тебя нет обязательств ни перед одной из партий?
— Никаких, — ответил я и чуть было не добавил "гори огнем они обе",
но сообразил, что это, возможно, заденет чувства моего визави.
— И тебе все равно, кому служить?
— Я же сказал — я служу только себе самому.
— А если я найму тебя на службу?
— Ты?! — я воззрился на стоящее передо мной лесное чучело, с трудом
сдерживая смех. — А платить будешь шишками или желудями?
— Я — Эвелина-Маргерита-Катарина баронесса Хогерт-Кайдерштайн, -
величественно произнесла "кикимора" и еще более надменным тоном
добавила: — Наследная владычица этого замка и окрестных земель.
Тут уж я не выдержал и расхохотался. Успевая, впрочем, одновременно
удивиться тому, чего не понял сразу: это вовсе не мальчик, а девчонка -
однако арбалетом она, похоже, владеет лучше, чем швейной иглой!
— Ага, а я — принц и претендент на престол… — произнес я,
отсмеявшись.
— Ты осмеливаешься подвергать сомнению правдивость моих слов? -
теперь острый наконечник стрелы смотрел мне в лицо.
Тут до меня дошло, что какая-нибудь дочка прячущихся в лесу
голодранцев, даже и вздумай она поиграть в "благородных", едва ли сумела
бы выстроить столь сложные фразы, как "значит, у тебя нет
обязательств…" и "ты осмеливаешься подвергать сомнению…" Она бы
изъяснялась в стиле "Так ты чо, ни за кого, да?" и "Да ты чо, мне не
веришь?!"
— Прошу простить мой смех, баронесса, — ответил я со всей возможной
серьезностью, — но давно ли вы смотрелись в зеркало?
— Три года назад, — негромко ответила она. — В день, когда они
ворвались в замок.
И в интонации, с которой она это сказала, было нечто, что заставило
меня поверить окончательно.
— Значит, вся твоя семья…
— Да. Они убили всех. Отца, мать, обоих братьев и старшую сестру. Я
выжила, потому что отец успел спрятать меня. Наверху, на балке под
потолком. Никто из взрослых не смог бы лечь там так, чтобы его не было
видно снизу. Только я. Поэтому я уцелела. Но я слышала, как их убивали.
Слышала… и кое-что видела. Но я ничего не могла сделать. Тогда у меня
не было арбалета. И если бы я издала хоть звук, меня бы нашли и тоже
убили. Я пролежала там, не шевелясь, полдня, пока они грабили замок.
Потом они раскидали повсюду солому, подожгли ее и убежали. Я успела
выбраться на стену — там одни камни, гореть нечему. Правда, чуть в дыму
не задохнулась, голова потом сильно болела… Когда пожар утих, я обошла
замок. Мне еще нужно было похоронить погибших. Тела сильно обгорели, но
так было даже лучше. Мне было бы трудно… засыпать землей их лица, если
бы они были, как живые. А так это были просто черные головешки. К тому
же… так они меньше весили. У меня бы, наверное, не хватило сил
перетаскать их всех, если бы они были целые…
— Сколько же тебе было лет?
— Девять. Сейчас двенадцать.
— Господи…
Я никогда не любил детей, и уж тем более не выношу всяческое
умиление и сюсюканье. Но тут меня вдруг пронзило чувство острой жалости
к этой совершенно чужой мне девочке. Захотелось хоть как-то приласкать и
утешить ее. Арбалет все еще смотрел в мою сторону, но уже явно не
целился в меня — она просто машинально продолжала его держать. Я шагнул
к ней и мягко отвел оружие в сторону. Затем очень осторожно — я ведь
понимал, каковы были ее последние воспоминания о мужчинах с мечами -
протянул руку и погладил ее по голове. В первый момент она и впрямь
вздрогнула и сделала инстинктивное движение отпрянуть. Но уже в
следующий миг расслабилась и доверчиво прижалась ко мне, пряча лицо в
моей куртке.
По правде говоря, грязные волосы отнюдь не были приятны на ощупь,
да и пахло от нее… понятно, как пахнет от человека, которому негде
нормально помыться, будь он хоть трижды благородного происхождения. Но я
продолжал гладить ее голову — молча, ибо не знал, что сказать. Любые
слова утешения звучали бы фальшиво. По тому, как вздрагивали ее плечи, я
понял, что она плачет — может быть, впервые за эти три года. Но она
делала это совершенно беззвучно, явно не желая демонстрировать мне свою
слабость. Наконец она отстранилась, как-то даже слишком резко, и снова
посмотрела на меня, похоже, жалея, что поддалась минутному порыву. Ее
глаза вновь были совершенно сухими — я бы даже подумал, что мне
показалось, если бы слезы не оставили предательские следы на грязном
лице.
— И все эти годы ты так и живешь здесь? — я даже не спрашивал, а
скорее констатировал очевидное.
— Да.
— Ты не думала перебраться к какой-нибудь родне?
— Никого не осталось. Я — последняя в роду.
— И тебе никто не помогает? Как же ты смогла прокормиться?
— Лес прокормит человека, который его понимает, — улыбнулась она. -
Еще до того, как все это случилось, мама отпускала меня с нашими
служанками по грибы и ягоды, так что я знала, какие можно есть. А отец
даже брал на охоту, хотя мама и ворчала, что это занятие не для девочки.
Но стрелять я тогда еще не умела. Я научилась потом, сама, уже после
ЭТОГО. Пожар и грабители уничтожили не все, мне удалось отыскать в замке
этот арбалет и еще кое-что… А Эрик, мой средний брат, научил меня
ставить силки и ловить рыбу в озере. Он часто играл со мной, хотя он был
мальчишка и на пять лет старше. Он вовсе не был таким задавакой, как
Филипп, старший…
— А твоя одежда? У тебя есть что-нибудь, кроме того, что на тебе
сейчас? — "если это вообще можно назвать одеждой", добавил я мысленно.
— Почти все сгорело. Уцелели платье и туфли, которые были на мне в
тот день… но я же из них давно выросла.
В самом деле. Я как-то не подумал об этом детском свойстве.
— И что же ты, круглый год так и ходишь босиком? И зимой?
— Ну, зимы в наших краях теплые, — беспечно ответила она. — В
прошлом году снег всего два раза выпадал, и почти сразу таял. Вообще-то,
есть еще старые отцовские сапоги, но они мне слишком велики. Даже если
тряпок внутрь напихать — идешь, как в колодках… Я их только зимой на
рыбалку надеваю, потому что там на одном месте подолгу стоять надо, и
впрямь замерзнешь. А ходить и бегать лучше уж босиком. Когда привыкнешь,