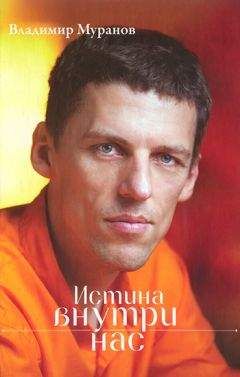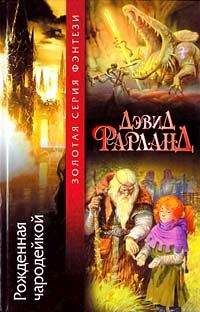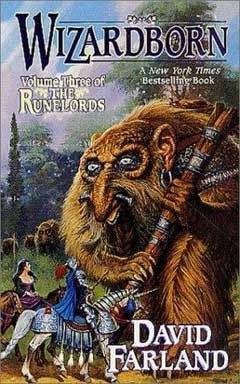Леонид Юзефович - Поиск-83: Приключения. Фантастика
— Какая мысль? — встревожился Семченко.
— Что стреляли вчера в вас…
— Да не было там этого рыжего!
— Во-первых, еще вопрос. Во-вторых, мог быть кто-то из их компании, кого вы не знаете. Придет Караваев, спросим. А завтра предъявим ему для опознания остальных идистов. Он у входа в зал стоял, на площадке, и несколько человек проходили мимо него, когда уже свет погас. И выскакивали потом, я спрашивал… И еще. — Ванечка сделал паузу. — Она была убита из такого же браунинга. Калибр совпадает… Кроме того, Балину, например, показалось, будто стреляли от окон. Я сегодня с ним разговаривал. Тогда вы как раз стояли на пути этой пули… А Казарозу здесь некому было убивать!
— Все равно не верю, — сказал Семченко.
— Понятно, — тут же отозвался Ванечка. — Я бы на вашем месте тоже не поверил. Страшно верить-то!
В коридоре послышались шаги — под многими сапогами вразнобой скрипели половицы, распахнулась дверь, и в комнату вошел Караваев. За ним блеснули обтянутые кожанами плечи двух чекистов, а между ними Вадим увидел Женю Балина, секретаря клуба «Эсперо».
— Привели, значит. — Ванечка подтянулся, приосанился.
— Ага, — сказал Караваев и подмигнул Семченко. — Зря ты, брат, побежал. Из-за тебя чуть по ложному следу не пошли. Потом уж сообразили, что пробоины считать отправился.
— На выходе взяли? — спросил Ванечка.
— Как договаривались.
— Обыскали?
— А как же. — Караваев протянул Ванечке сложенный пополам листок. — Письмо нашли, а оружия при нем не было.
Ванечка развернул листок, глянул мельком и протянул Семченко. Тот взял за самый краешек опасливо:
— Что это?
— Копия письма, которое Линев отправил Алферьеву на адрес клуба «Амикаро».
Замирая от любопытства, Вадим вытянул шею — письмо было на эсперанто, текст пестрел звездочками, а внизу, под чертой, сноски, как в научных сочинениях.
12
Утром Семченко съел в буфете яйцо с булкой, выпил полчашки кофе и вышел на улицу. Мимо Петропавловского собора, где теперь размещался краеведческий музей, спустился на набережную. Было безлюдно, тихо, пасмурно. Вокруг скамеек валялись бумажные стаканчики от мороженого, желтели в траве головки мать-и-мачехи.
Семченко присел на скамейку и стал думать о том, что именно говорить сегодня вечером на встрече с городскими эсперантистами. Ничего путного в голову не приходило. Если бы хоть Минибаев приехал, какая-то искра могла и вспыхнуть — Линева бы вспомнили, Альбину Ивановну. А так будет мероприятие для галочки, вежливые скучающие лица, подчеркнутое внимание Майи Антоновны, какой-нибудь юнец, высокомерно колдующий над магнитофоном, и опять те же открытки с памятниками и пейзажами. Не эсперантисты, а филиал клуба коллекционеров!
Вообще, идти в школу не хотелось. Что он им скажет? Вот Минибаев — честь ему и хвала! — как-то общается с этим народом, понимает его. Или просто греется на старости лет у чужого огня, который когда-то был его собственным?
Не о Вавилонской же башне рассказывать этим ребятам!
Смысл этой легенды Семченко всегда понимал так: бог решил наказать людей за дерзость и разделил языки, чтобы люди никогда уже не смогли совершить ничего такого, для чего нужны совместные усилия всего человечества. Иными словами, он сделал это из страха перед людьми. По римскому принципу «разделяй и властвуй!». Но доктор Сикорский, который к лету двадцатого года от эсперантизма отошел, толковал легенду о Вавилонской башне по-своему.
«Видите ли, Коля, — говорил Сикорский, и его губы, узкие синеватые губы человека, страдающего болезнью сердца, во время пауз складывались в недоуменную полуулыбку, — я пришел к выводу, что после разрушения Вавилонской башни бог разделил языки из любви к людям. Да-да, из любви! Конечно, поверить трудно, потому что у нас в сознании сложился образ этого события. Гром, молния, бегущие в разные стороны незадачливые строители, на головы которых рушатся каменные глыбы. Какая уж тут любовь! Но давайте смотреть глубже, в корень. Бог лишил людей большой общности, но для того, чтобы дать взамен малые, жить в которых теплее и спокойнее. Я толкую эту легенду именно так и полагаю, что прав. В противном случае ей бы не нашлось места на страницах священного писания… А эсперантизм — новая попытка вывести человека на просторы целого мира. Безнадежная попытка. Я сам втравил вас в это дело, и будет правильно, если горькие слова вы тоже услышите от меня. Дело не в физической осуществимости наших идей. Нужны ли они людям — вот вопрос…»
Тогда эти рассуждения на Семченко особого впечатления не произвели. Вспомнились они позднее, в тридцать пятом году, когда его как бывшего эсперантиста уговорили выступить на закрытии одного из московских эсперанто-клубов. Эсперантисты в то время были уже не в чести, и Семченко не очень-то распространялся о своем прошлом. Но каким-то образом узнали, а раз узнали, отказаться было нельзя, он и выступил. Свое согласие он предательством не считал, ибо сам давным-давно не играл в эти игры. Намотавшись по заграницам, уразумел, что никакого братства в ближайшее время не предвидится, а если так, то идея эсперантизма становилась вредной, отвлекала от насущных проблем, как религия. Кроме того, он прошел сквозь горнило любви и разочарования и потому имел право обо всем говорить прямо. Немного смущало лишь то обстоятельство, что люди, которые придут на закрытие клуба, подумают, будто он действует по указке сверху, не от души.
Но народу явилось мало, сидели с равнодушными лицами, словно повинность отбывали. Лишь немолодая полная женщина плакала в первом ряду, прикрывая лицо платком. И глядя на нее, Семченко вдруг рассказал о Вавилонской башне, хотя вовсе не собирался, ни к чему было, да и человек, уговоривший его выступить, такой порыв мог не одобрить.
Потом женщина подняла голову, и Семченко узнал Альбину Ивановну.
Сразу не по себе стало. После выступления он бросился ее искать, хотел объясниться, но так и не нашел.
А теперь вот снова появились эсперанто-клубы — и здесь, и в Москве. Недели две назад он видел афишу:
«Эсперанто — язык мира и дружбы. Он в 10—12 раз легче любого из иностранных языков. Желающие приглашаются на курсы, справки по телефону…»
Может, об этом обо всем сегодня и рассказать?
Семченко долго не мог взять в толк, почему Балина привели в губчека под конвоем, а Ванечка до объяснений не снизошел и на допросе присутствовать тоже не позволил. Цельную картину Семченко составил лишь после того, как Караваев, сжалившись, вышел покурить с ним в коридор, где коротко изложил события минувшего дня.