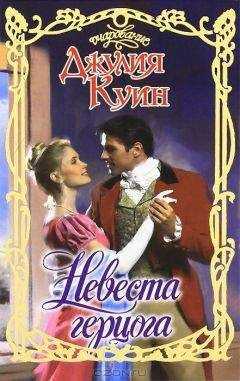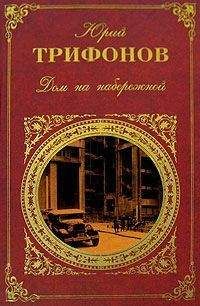Томас Диш - Щенки Земли
– Нет! Пусть Моусли остается. Вы наверняка сможете найти какое-нибудь место, где я мог бы допросить этого типа с пристрастием. Ладно, заприте его в моей квартире и поставьте у двери часового. И… – это я шепнул охраннику на ухо, – обращайтесь с ним не слишком грубо. Он мне потребуется в добром здравии. Я, с Божьей помощью, смогу отбить у него охоту набрасываться на кого бы то ни было. Чертовы любимцы, – проворчал я, повернувшись к Куилти, недоумение которого в любой момент могло превратиться в подозрение, – должно быть, они все со сдвигом.
Такое оправдание выглядело слишком слабым объяснением этой стычки со Святым Бернаром, но Куилти оно, к счастью, удовлетворило. Оно даже заставило его оживиться.
– Безумие – у меня точно такая же теория, майор! Если у вас есть время, я мог бы продемонстрировать вам один исследуемый мною случай. Самый исключительный пример подобного типа. Классические симптомы психоза. Прекрасный случай невроза принуждения. Это займет совсем немного времени. А потом, если пожелаете, мы сможем продолжить осмотр печей.
– Ведите меня в бедлам, доктор. Покажите мне всех ваших психов. Понаблюдать денек за сумасшедшими гораздо забавнее, чем заглядывать в печи.
– Несомненно. Но пойдем помедленнее, если вы не возражаете, майор. Моим ногам с каждой минутой все хуже.
Должен сказать, что, хотя шел третий день моего пребывания в женской исправительной колонии Сен-Клу (таковым было назначение этого места незадолго до моего в нем появления и таковым оно вскоре стало снова), я еще не делал попыток вступить в контакт со Святым Бернаром или Кли. Пока не пришло время спасения, обнаружение моего присутствия было бы совершенно пустым – и опасным – жестом. Опасным, потому что, вероятнее всего, Палмино сразу понял бы, что они представляют для меня особый интерес, и получил бы таким образом дополнительное основание для шантажа – или даже предательства. Я боялся подумать о тех действиях, на которые он, при его грубой и похотливой натуре, мог бы пойти, узнав, что Кли – моя мать! Мне и без того приходилось пускать в ход весь свой талант убеждения, чтобы заставить его сохранить жизнь Моусли, но не удалось оградить лейтенанта-неудачника от ночных допросов Палмино. Чувство вины перед лейтенантом усугублялось жалобными криками, которые доносились из его одиночной камеры по ночам и заставляли меня глотать слезы долгими бессонными часами ожидания в радиобудке.
Я старался как мог избегать злобного влияния на меня Палмино, проводя время с другими офицерами, – либо упражняясь в сдерживании алчности капитана Фрэнгла, либо составляя компанию преподобному капитану или доктору Куилти в их обходах тюрьмы с целью насаждения баптизма и заботы о здоровье заключенных. Из этих двоих второй был мне более по вкусу. Мое предпочтение Куилти тоже оценивал по достоинству.
– Я такой же скептик, как и вы. Cogito, ergo sum[8], я сомневаюсь – значит, я есть. Это из Декарта, – заявил как-то Куилти во время нашей дискуссии о грубости миссионерской тактики преподобного капитана. – Я вместе с бессмертным Зигмундом Фрейдом верю в могущество разума. Полагаю, военные люди не так уж глубоко изучают психологию? Глубины этой материи для вашего брата, должно быть, настоящая terra incognita[9].
– Если вы не включаете в эту категорию военную стратегию, то я действительно мало знаком с психологией. – Я был уверен, что майор именно так лаконично должен выражать свое мнение о подобных вещах.
– Да… Верно, но это совершенно особая ветвь данной науки. Однако в более общем плане вы, вероятно, читали очень мало, если не считать «Жизнь человека». В душе вы должны знать, что… эй, майор?
– О, – я впервые слышал об этой книге, – отчасти. Но помню смутно, отрывочно.
– Вы, видимо, удивлены, услыхав от меня, что это психологическая книга, – и все же это глубочайшее исследование предмета, когда-либо выходившее из-под пера человека. Да еще и такое практически значимое.
– Мне не приходилось сталкиваться со столь восторженным отзывом, доктор. Продолжайте, пожалуйста
– Вы, конечно, помните место, где он говорит: «Когда собаки злы, люди молят милости у ног демонов». Преподобный капитан, скорее всего, интерпретирует это в религиозном смысле – и он, разумеется, не совсем неправ. Но эти слова отражают еще и важный психологический аспект. О, мои ноги!
– В чем дело?
– Ничего особенного, только приступ боли. Я просто считал своим долгом, то есть хотел попытаться… то, что преподобный капитан называет баптизмом, – на самом деле древнейший хирургический инструмент в истории психологии. Могу поспорить, что вы этого не знали, не так ли?
– Действительно не знал.
– Да. Мы, психологи, называем это шоковой терапией. Вот они, майор. Эти чокнутые. Их здесь целый блок, других таких не найдете. Эти, должен заметить, наиболее тяжелые – самые безнадежные. «Аутизм», как мы, психиатры, называем такое состояние.
– Мне это нравится. Здесь гораздо спокойнее, чем в камерах других блоков. Те напоминают мне ульи – из них доносится непрестанное жужжание.
– Здесь так спокойно, что у нас даже нет надобности держать в этом блоке охранников. Они вот так и сидят целыми днями, бормоча болезненную чепуху или прислушиваясь к чепухе кого-то другого. Их невозможно понять. Они съедают по утрам немного каши и выпивают чашку похлебки вечером – но и это им приходится давать прямо в руки. Иначе они просто будут сидеть, пока не умрут от голода. Любимцы!
– Как вы объясняете их состояние, доктор?
– Безумие – такова моя теория. Шок дня S… – (так Динги называли день, когда солнечные вспышки пережгли предохранители Господ) – …он травмировал их. Следовательно, они не смогут прийти в себя, пока… – доктор жестом и взглядом обвел все пять ярусов камер, – это будет продолжаться. – Конечно, – закончил он сдержанным тоном, – это всего лишь теория.
– Для меня она убедительна, доктор. Не стоит извиняться.
– Вам она нравится? Тогда пойдемте, я хочу показать вам моего самого интересного пациента. Он годится для учебника. Если бы был жив профессор Фрейд! Как бы его порадовал этот случай!
Мы поднялись по металлической лестнице к третьему ярусу камер и пошли по длинному коридору, который уводил нас все дальше и дальше от крупиц солнечного света, пробивавшегося сквозь грязные застекленные фонари крыши. И там, в центре группы щенков и подросшей молоди, внимание которых граничило с гипнотическим состоянием, стоял мой брат Плуто; он и заворожил их чарующим ритмом своей речи. Я сразу же понял, что именно он декламировал. Это была «Молитва облачению» из его последней «Книги обрядов». Это коротенькое творение создавалось для песенного исполнения двумя антифонными хорами по пятьдесят голосов в каждом в сопровождении двух камерных оркестров. В процессе ее исполнения сам священнослужитель надевает на себя три «священные» предмета одеяния. Представление должно было навевать ужас, но при данных, существенно урезанных внешних эффектах ничего, кроме грусти и жалости, вызывать не могло. В качестве стихаря Плуто служила грязная нижняя рубаха; его ризой был украденный в пекарне мешок из-под муки; перстнем служила какая-то ржавая железяка. При всей смехотворности внешнего облика Плуто вовсе не выглядел смешным. Величие самой молитвы – которую я воспроизвожу здесь по памяти – с лихвой восполняло все остальное: