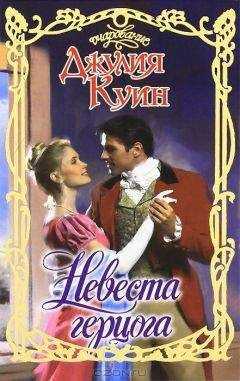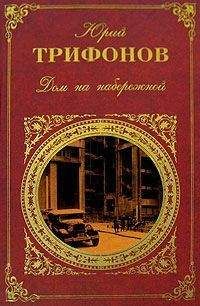Томас Диш - Щенки Земли
– И сколько же вы все-таки вырабатываете?
– Не больше пятисот. В удачные дни. Как видите, это никак не покрывает наши нужды. В идеале можно придумать что-то, что дало бы прибыль.
– Например, продавать золу на удобрение, вы хотите сказать?
– Надо же, мне это даже не приходило в голову! Мы до сих пор просто сваливали золу в кучу. Вы хотите понаблюдать за работой? Вам интересны подобные вещи?
– Несомненно, доктор. Ведите меня.
– Надо обойти кругом… О! Одну секунду, майор. Мои ноги! Последние несколько дней с ними творится что-то неладное. Они словно опухают… Не понимаю, в чем дело.
– Возможно, – предположил я, слегка улыбаясь, – дело вовсе не в ногах. Может быть, уменьшились ваши ботинки?
Доктор Куилти болезненно улыбнулся в ответ и наклонился, чтобы ослабить шнурки. Он был очень грузен: даже это пустяковое усилие оказалось для него настолько тяжелым, что кровь прилила к лицу, а дыхание сделалось неглубоким и частым. Его вялая плоть обвисла складками на подбородке и предплечьях, а громадный живот наглядно являл извечную рабскую зависимость человека от силы тяжести и неизбежность смерти.
Прихрамывая, Куилти повел меня за угол здания, где нашим взорам предстала бригада понурых любимцев, которые таскали напиленные бревна из штабеля по ту сторону главных ворот тюрьмы и складывали их в новый штабель внутри ограды. За работой, в которой участвовало около пятидесяти любимцев, наблюдал единственный конвоир, да и тот дремал.
– Поглядите на них! – презрительно изрек Куилти. – Они отдают работе не больше сил, чем могла бы отдавать такая же команда женщин. При их-то мускулатуре каждый, по-моему, в силах поднимать по меньшей мере целое бревно.
– Может быть, дело в их морали? Если бы они делали… что-нибудь другое… работу какого-то иного сорта? Возможно, их угнетают сами печи.
– Нет, поверьте моему слову, они работают спустя рукава, на какую бы работу их ни поставили. Да и почему такого сорта работа может их угнетать? Я вас не понимаю, майор.
Я покраснел, пораженный возможностью немедленного разоблачения. Это было бы ужасно.
– Не отдавали бы они больше души, если бы работали… более… в собственных интересах? Или по крайней мере не целиком вопреки им?
– Но что может быть более в их интересах, чем это? Откуда еще, по вашему мнению, берется их пища?
– Неужели, доктор, вы хотите сказать, что… что эти печи обеспечивают…
– Каждую буханку хлеба в этой тюрьме, майор. Да, сэр, мы на полном самообеспечении. И мы справились бы с этим, если бы эти чертовы любимцы хотя бы мало-мальски готовы были гнуть спины!
– О, так вот какого рода эти печи. Ну тогда, я полагаю, должна быть какая-то другая причина их апатии. Может быть, они не заинтересованы в выпечке большего количества хлеба, чем могут съесть сами. Вроде той рыжей курочки, если вы читали этот рассказ.
– Не могу сказать, майор, что я такой активный читатель, каким хотел бы быть. Но дело не в этом – они не выпекают даже того, что им необходимо. В тюремных блоках есть любимцы, которые голодают, а эти шавки тем не менее не желают попотеть, пока их не отхлещут. Они совершенно бесчувственны к последствиям собственных действий. Им хочется быть сытыми, но они не станут утруждать себя, чтобы прокормиться. В одном этом дело.
– Вы наверняка преувеличиваете, доктор.
– Я знаю, сначала в это трудно поверить. Возьмем другой случай: на днях две сотни мужчин и женщин отправили копать картошку, репу и все такое на старых полях неподалеку отсюда. И что же, эти двести любимцев вернулись после целого дня работы, накопав меньше четырех килограммов per capita[5]. Это по-латыни. Знаете ли, мы, доктора, обязаны изучать латынь. Восемьсот килограммов картофеля, чтобы накормить тринадцать тысяч заключенных! И не скажешь, что они не были голодны, когда, черт побери, почти все постоянно недоедают!
– Для этого должны быть предпосылки, – пустился я в опрометчивое теоретизирование. (Как раз по этому поводу Палмино высказывался предельно ясно: «Ни один майор никогда не должен высказывать мнение, которое кому-то может показаться оригинальным».) – Они привыкли получать пищу прямо из рук. В них воспитано чувство апатии к любой работе. Это ведь так понятно.
– Я не в состоянии даже попытаться это понять, – возразил Куилти, отрицательно качая головой, отчего пришел в колебательное движение и его многослойный подбородок. – Каждый должен работать – такова жизнь.
– Ну, рабочие – конечно, они должны работать. Но возможно, любимцы, – (чертовы любимцы, должен был я сказать), – подходят к этому примерно так, как мы с вами, доктор. Может быть, они считают себя – без всякого на то основания – офицерами и джентльменами.
– Вы полагаете, что врачевание не работа? – спросил опешивший Куилти. – По моему разумению, найдется не так уж много более отвратительных занятий, чем ковыряться в чужих гнойниках, заглядывать людям в глотки и совать собственный палец в их pons assinorum[6]!
– Вы правы, доктор. Абсолютно правы. И все же, не кажется ли вам, что есть существенное различие между нами и обычными тружениками? Как вы правильно заметили, работа унижает, и если какая-то личность может позволить себе не выполнять никакую…
– У-ни-жа-ет? Я этого не говорил! Я люблю свою работу, майор. Но это вовсе не означает, что я претендую на ложе из розовых лепестков. У меня просто есть работа. Она такая же, как и любая другая. У нее есть плохие стороны, как и у… Майор? Майор, что-нибудь не так? Вы не заболели? На вас лица нет…
Внезапная бледность выдала охватившее меня чувство страха. Всего в нескольких метрах от нас в окружении других членов бригады, носившей бревна, стоял Святой Бернар и пристально вглядывался в меня, явно намереваясь подойти. Улыбаясь, но все еще не веря собственным глазам, он двинулся в мою сторону.
– Встать в строй! – взревел конвоир.
Святой Бернар не повел и ухом.
– Белый Клык! Brüderlein, bist du’s?[7] – Его руки сомкнулись вокруг моих плеч в неимоверно крепком братском объятии.
– Помогите! Охранник! – закричал я. – Арестуйте этого сумасшедшего! Оттащите его от меня! Бросьте его в одиночную камеру!
Дружеская улыбка на лице Святого Бернара сменилась миной недоумения. Пока охранник тащил его прочь, я пытался мимикой и подмигиванием дать понять, что ему нечего бояться.
– Если вы хотите запереть этого парня в одиночку, то следует ли перевести куда-то в другое место Моусли? – обратился ко мне конвоир.
– Нет! Пусть Моусли остается. Вы наверняка сможете найти какое-нибудь место, где я мог бы допросить этого типа с пристрастием. Ладно, заприте его в моей квартире и поставьте у двери часового. И… – это я шепнул охраннику на ухо, – обращайтесь с ним не слишком грубо. Он мне потребуется в добром здравии. Я, с Божьей помощью, смогу отбить у него охоту набрасываться на кого бы то ни было. Чертовы любимцы, – проворчал я, повернувшись к Куилти, недоумение которого в любой момент могло превратиться в подозрение, – должно быть, они все со сдвигом.