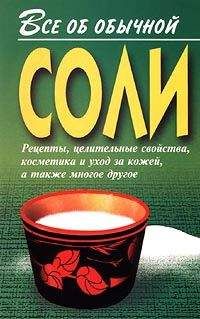Николай Симонов - О завтрашнем дне не беспокойтесь
В памяти в сей же миг всплыли, подходящие ситуации, переживания лирического героя самиздатовского писателя Михаила Веллера:
«Ягодицы ее были ошеломительны. Дрыглов увидел их и погиб. Они круглились и дышали под обтягивающим трикотажем тонких коричневых эластиковых брюк, подрагивая и гуляя при каждом шаге…»
Точь-в-точь, как у Петровой. Только брюки не коричневые, а темно-синие в полоску. Интуиция подсказывала ему, что у этой, несомненно, талантливой девушки — глубокий душевный кризис. И он, по-прежнему делая вид, что читает, мысленно представил себя на месте ее ухажера-сверстника, у которого куча проблем с учебой, бесконечные ссоры с родителями и т. д. И полная неопределенность в вопросе выбора будущей профессии.
Какими были бы их отношения? Очевидно, они бы стали нарушать запреты, наложенные взрослыми, и дело обязательно дошло бы до интимной близости, а затем начались бы бесконечные страдания по поводу дисгармонии чувств и невозможности сгладить их посредством полноценной семейной жизни. Далее, аборт, разрыв отношений, и … прощай первая любовь.
— Вот, Лена Водонаева дала свое, — вывел его из состояния задумчивости голос Петровой. Он поднял голову и увидел, что она протягивает ему белое махровое полотенце с вышитой на ней латинской буквой W, которая в перевертыше означает букву М. «Мастера, значит, как Маргарита, ждет», — догадался он. «А это мое, вы им ноги вытрите и в душевой оставьте, все равно выбрасывать», — с этими словами она протянула ему коричневого цвета махровое полотенце с едва заметными ржавыми разводами. Во взгляде ее сквозили смирение и грусть. Он забрал оба полотенца, сказал «большое спасибо» и отправился принимать душ. Зайдя в мужскую раздевалку, он не удержался от того, чтобы прочитать намалеванные на стенах (разноцветными фломастерами) надписи. Одни из них были неприлично-грубые, иные — загадочные, и даже пророческие, например: «Когда человек узнает, что движет звездами, Сфинкс засмеется, и жизнь на Земле прекратится». Лично он об этом старинном поверье узнал от своего друга — историка и археолога Николая Терехова. «Интересно, — подумал он, — кто рассказал о Сфинксе здешним школярам? Неужели учитель истории?». И сразу вспомнил Марка Аврелевича Ляльчика — очень интеллигентного, эрудированного, но немного странного педагога. Большинство школяров называли его Мартом Апрелевичем, и, что удивительно, он на это прозвище даже отзывался. Молва утверждала, что после окончания пединститута его не пустили в аспирантуру по причине связи с членами семьи какого-то очень известного изменника Родины. Павлов развеселился, так как в его памяти всплыл случай, из-за которого он подставил вышеупомянутого учителя под строгий выговор. Шел урок. Все как обычно, кто-то слушает, а кто-то нет… А Павлов сидел практически рядом с дверью. Делать ему было нечего и он, просто так постучал по парте. Марк Аврелевич, который в это время рассказывал о борьбе народов Африки за освобождение от колониального ига и водил указкой по политической карте мира, резко развернулся и стал слушать. Через пару секунд подошел к двери, открыл, посмотрел — никого… И тут Павлова прорвало. Решив, что историка, которого он недолюбливал, это бесит, он опять постучал. На этот раз с криком: «Кто-то хулиганит!», — учитель кинулся к двери. А там опять — никого… Класс счастливо хихикал в кулак и подмигивал преступнику. Когда Павлов постучал в третий раз, у историка началась истерика.
И, побежав посмотреть, кто же стучит, Марк Аврелевич увидел малого из 6-го «Б», который, не ведая печали, прогуливал занятия и спокойно шел по коридору из столовой (находилась рядом с кабинетом истории), с аппетитом поедая свежеиспеченную ватрушку. Подумав, что это он стучит, Марк Аврелевич схватил его за шиворот и с ором на всю школу потащил в кабинет директора для дальнейших репрессий, где им досталось обоим: одному (школяру) за прогул урока без уважительной причины, а второму (учителю) — за … срыв занятий без уважительной причины. Заметил он и знакомую со школьных лет надпись, содержащую «очень мудрый» практический совет: «Если куришь ты бычок, не кидай его в толчок, лучше брось за унитаз — и покуришь ещё раз!» «Пройдет месяц, в школе состоится ремонт. Вся эта „наскальная живопись“ исчезнет под слоем краски или штукатурки, и, возможно, никто больше не узнает о третьей загадке Сфинкса», — не без сожаления подумал он. В душевой, разделенной на три кабинки, он включил краны с горячей водой, чтобы повысить в помещении температуру, и только потом разделся, развесив одежду на вбитые в бетонную стену железные костыли — те самые, которыми на железной дороге прикрепляются рельсы к шпалам. «Вешалки нормальной даже нет», — посетовал он. Потом он зашел в самую чистую, как ему показалось, кабину, отрегулировал температуру и напор воды и приступил к водным процедурам, самой любимой из которых был контрастный душ. После того, как он уже трижды переключился с горячей воды на холодную, в дверь раздевалки постучали.
— Кто там? — спросил он, первым делом, подумав о вернувшейся с вокзала Галине Павловне.
— Это я, Лена, я вам шампунь принесла, хороший, импортный — услышал он знакомый голос.
— Спасибо, оставь возле двери — поблагодарил он ее.
— А я хочу directement sur place, из рук в руки — сказала она и, чуть приоткрыв лишенную запоров дверь, просунула в нее руку с зажатым в кулаке флаконом шампуня польского производства с ласковым названием «Дося». Рука была голой, и в этом был либо намек, либо подвох. Потом рука исчезла, и в проеме показалось изящная ступня босой ноги, на которой болтались белые шелковые трусики с трафаретом «Силуэт черной кошки» — последний писк моды от сухумских цеховиков и заветная мечта всех московских путан. Если бы не эти трусики, то Павлов, наверное, сообразил, что его разыгрывают, а так он подумал, что Лена пришла к нему за французским поцелуем, и теперь уже поздно отрекаться от своих слов. И он поспешил открыть дверь, чтобы впустить ее и отругать. О том, как он будет при этом выглядеть, он не отдавал себе отчета. Завелся.
Распахнув же дверь, он обнаружил себя в столь дурацком положении, о котором не мог и помыслить. За дверью притаились Лена Водонаева и Нина Петрова. Но в отличие от него они были одетыми. Только у Водонаевой на спортивном костюме рукав был закатан выше локтя, а штанина — выше колена. Мгновение, и он захлопнул дверь, услышав, как бесшабашные школьницы, давясь от смеха, убегают. «Бестии, чуть до инфаркта не довели!», — выругался он, но потом все-таки выглянул за дверь, чтобы удостовериться, что за ней еще кто-то не стоит, подобрал с пола флакон с шампунем и продолжил водные процедуры. В невеселом настроении он обтерся белым махровым полотенцем, оделся на сухое тело, переменил носки и направился в свой уголок на лавочке. Почему то он вспомнил, что в начале любимого им девятнадцатого века показать свою ножку мужчине считалось для девушки смертельным грехом. Так рассказывала им добрейшая Анна Ивановна, объясняя, почему А.С. Пушкин рисовал их на страницах своих рукописей и посвящал им стихи: «Ах! долго я забыть не мог две ножки… Грустный, охладелый я все их помню, и во сне они тревожат сердце мне». «Ножка-ножка, ножище, нога… Какой нынче в этом прок, если бабы от мала до велика носят платья и юбки до колена и выше — почти до самого не балуйся. И вот, тебе, пожалуйста, иные уже норовят показать труселя…», — в Павлове нарастала угрюмая злоба ко всему женскому роду. Свет в спортзале был притушен до состояния таинственного полумрака. Горели только две люминесцентные лампы: над запасным выходом и к удобствам общего пользования. Девчата в разных позах: на спине, на боку, на животе, — устроившись на спортивных матрацах, подложив себе в изголовье, каждая, что смогла собрать из своего походного гардероба, готовились попасть в объятия Морфея. В углу возле стены, вдоль которой были разложены спортивные матрацы, он приметил поставленные в ряд друг за другом три дорожные сумки. Затем он посмотрел на свои «командирские» часы. «Уж полночь близится, а Германа все нет», — подумал он, имея в виду сильно запаздывающую.