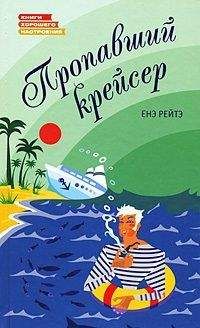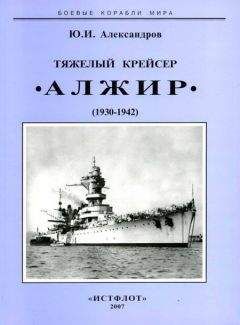Рик Янси - 5-я волна
Спасибо тебе, Господи».
«Уберег, спас, поддерживал, – говорит мишка. – Спасибо тебе, Господи».
«А толку-то?» – думаю я.
Всю вину я взваливаю на папу. Он с такой подростковой симпатией рассуждал о других и так старался не терять оптимизма. Но я на самом деле вела себя ничуть не лучше. Просто было трудно смириться с тем, что вечером я легла в постель человеком, а утром проснулась тараканом. Признать тот факт, что я мерзкое насекомое с мозгом не больше булавочной головки, да еще разносчик инфекции, не так-то легко. Нужно время, чтобы смириться с подобным положением вещей.
А мишка все не унимается:
«Ты знаешь, что таракан может целую неделю прожить без головы?»
«Ага. Рассказывали на биологии. То есть ты намекаешь, что я не дотягиваю до таракана. Спасибо. Придется теперь выяснять, что я за вредное насекомое».
И тут меня осеняет. Может быть, глушитель поэтому и не добил меня на шоссе. Прыснул спреем на букашку, и шагай дальше. Зачем топтаться рядом и смотреть, как эта букашка вертится на спине и цепляется за воздух тоненькими лапками?
Валяться под «бьюиком» или бежать – какая разница? В любом случае ущерб был нанесен. Моя рана не заживет сама по себе. Первый выстрел был смертным приговором, так зачем тратить на меня патроны?
Метель я переждала на заднем сиденье «форда эксплорера». Опустила спинку переднего кресла и соорудила себе уютную железную хижину, откуда можно наблюдать, как весь мир становится белым. Окна открыть не удалось, так что очень скоро салон провонял кровью и гноем.
Все обезболивающие таблетки я проглотила за первые десять часов.
Съестные припасы доела к концу первого дня во внедорожнике.
Когда хотелось пить, я приоткрывала люк и зачерпывала ладонью снег с крыши. Чтобы не задохнуться, держала крышку люка поднятой, пока зубы не начинали клацать от холода и каждый выдох не превращался в ледяной шар у меня перед носом.
Во второй день снега выпало на три фута, и моя маленькая металлическая хижина уже меньше походила на убежище, скорее на саркофаг. Дни были всего на два ватта светлее ночей, а ночи были абсолютным отрицанием света.
«Ну, понятно, – думала я. – Значит, вот так мертвые видят мир».
Я прекратила задаваться вопросом, почему глушитель оставил меня в живых. Меня больше не тревожило странное ощущение, будто у меня два сердца: одно в груди, а второе, поменьше, в колене. Мне уже было неинтересно, закончится ли снег до того, как оба сердца перестанут биться.
Я даже не спала по-настоящему. Пребывала в каком-то промежуточном состоянии между здесь и там, прижимала к груди мишку, а тот продолжал смотреть на мир открытыми глазами, когда мои глаза закрывались. Этот мишка исполнял обещание, которое дал мне Сэмми. Он был со мной.
«Кстати, про обещания, Кэсси…»
За эти два снежных дня я, наверное, тысячу раз просила у него прощения.
«Прости меня, Сэмс. Я сказала, что приеду, что бы ни случилось, вот только ты слишком мал, чтобы понять, что неправда бывает разной. Есть неправда, и ты знаешь, что это неправда. Есть неправда, о которой ты не знаешь и понимаешь, что не знаешь. А есть такая, про которую ты только думаешь, что знаешь, а на самом деле нет. Давать обещание в разгар операции инопланетян по зачистке Земли от людей – это последняя категория неправды. Прости!»
И вот спустя день окоченевшая Кэсси, по пояс в сугробе, с беретиком из снега на обледеневших волосах, с покрытыми инеем ресницами умирает по дюйму. Но умирает хотя бы стоя, пытаясь выполнить обещание, которое не поможет выполнить ни одна молитва.
«Мне так жаль, Сэмс, так жаль.
Больше никакого вранья.
Я не приду».
33
Я точно не на небесах. Тут не та атмосфера.
Бреду в густом тумане безжизненной белизны. Мертвое пространство. Тишина. Я даже свое дыхание не слышу. – Вообще-то я не уверена, что дышу. А дыхание – это пункт первый в списке «Как узнать, что ты еще жива?».
Я уверена, что в комнате кто-то есть. Не вижу его и не слышу, не прикасаюсь к нему и не чувствую его запаха, но знаю, что он рядом. Не знаю, почему я это знаю, но знаю, что это он и он за мной наблюдает. Он не двигается, пока я пробираюсь сквозь белый туман, но расстояние между нами не меняется. Меня не раздражает его присутствие и то, что он на меня смотрит. Но уютно я себя от этого тоже не чувствую. Он просто данность, такая же, как туман. Есть туман, есть я, которая не дышит, и есть человек, который все время рядом и все время наблюдает.
Но когда туман рассеивается, рядом со мной никого нет. Я на кровати с четырьмя столбиками, лежу под тремя лоскутными одеялами, которые немного пахнут кедром. Белое ничто исчезает, его место занимает теплый желтый свет от керосиновой лампы, которая стоит на столике возле кровати. Чуть приподняв голову, я вижу кресло-качалку, зеркало в человеческий рост и фанерные дверцы шкафа. К моей руке прикреплена пластиковая трубка, она убегает к полиэтиленовому пакету с прозрачной жидкостью, который подвешен на металлическом крючке.
Несколько минут уходит на то, чтобы распознать окружающие предметы, понять, что ниже пояса я ничего не чувствую, и принять совершенно необъяснимый факт: я не умерла.
Тяну руку и нащупываю толстую повязку на колене. Хотелось бы почувствовать икру и пальцы на ноге, но я ничего не чувствую и с тревогой допускаю, что ниже повязки ничего нет, ни икры, ни пальцев. Но чтобы пощупать ногу ниже колена, надо сесть, а сесть я не могу. Кажется, в рабочем состоянии у меня остались только руки. Я откидываю одеяло и открываю свою верхнюю половину прохладному воздуху. На мне хлопчатобумажная пижама в цветочек.
«Чем тебе не нравится пижама?» – спрашиваю я себя.
Под ней ничего нет. Стало быть, какое-то время между снятием с меня одежды и надеванием на меня пижамы я была абсолютно голой, аб-со-лютно.
Я поворачиваю голову влево: комод, стол, лампа. Вправо: окно, стул, стол. А еще мишка, он здесь, сидит рядом со мной, опираясь на подушку, задумчиво смотрит в потолок, и плевать ему на все вокруг.
«Мишка, где мы, черт возьми?»
Внизу хлопает дверь, половицы под кроватью вздрагивают. Я слышу топот тяжелых ботинок по доскам. Потом тишина. Гнетущая такая тишина, если не считать стука моего сердца о ребра, а стучит оно громко, как акустические бомбы Криско, так что не услышать невозможно.
Бумбум-бум. И каждый новый «бум» громче предыдущего.
Кто-то поднимается по лестнице.
Я пытаюсь сесть. Не самое умное решение. У меня получается приподняться на четыре дюйма над подушкой, и это все. Где моя винтовка? «Люгер»? Кто-то уже поднялся по лестнице и сейчас стоит за дверью, а я не могу двигаться, и даже если бы могла, у меня на вооружении только чертова плюшевая игрушка. И что делать? Задушить этого типа в объятиях?
Когда не знаешь, что делать, лучше не делать ничего. Притвориться мертвой. Выбор опоссума.
Прикрыв глаза, сквозь ресницы смотрю, как открывается дверь. Вижу красную рубашку в клетку, широкий коричневый ремень, синие джинсы. Большие сильные руки с аккуратно подстриженными ногтями. Стараюсь дышать ровно, даже когда он становится рядом с кроватным столбиком и, как я догадываюсь, проверяет капельницу. Потом он поворачивается, я вижу его зад, снова поворачивается, и его лицо, когда он садится в кресло-качалку рядом с зеркалом, попадает в поле моего зрения. Я вижу его лицо и свое в зеркале.
«Дыши, Кэсси, дыши. У него хорошее лицо, не похоже, что он желает тебе зла. Иначе вряд ли он притащил бы тебя сюда и поставил капельницу. Простыни такие мягкие и чистые. Он переодел тебя в эту хлопковую ночнушку. Что, по-твоему, он намерен с тобой сделать? Твоя одежда была грязной и вонючей, как и твое тело, а вот теперь кожа пахнет свежестью и немного лилией. Он тебя помыл, представляешь?»
Я стараюсь дышать ровно, но получается не очень.
– Я знаю, что ты не спишь, – говорит парень с хорошим лицом.
Я ничего не отвечаю, и тогда он добавляет:
– И еще, Кэсси, я знаю, что ты за мной наблюдаешь.
– Откуда ты знаешь, как меня зовут? – каркающим голосом спрашиваю я.
Горло у меня как из наждачной бумаги. Открываю глаза и теперь вижу его лучше. Насчет лица я не ошиблась, у него правильные черты, как у Кларка Кента. Парню, наверное, лет восемнадцать-девятнадцать. Плечи широкие, красивые руки и еще эти ухоженные ногти.
«Что ж, – говорю я себе, – все могло быть хуже. Тебя мог подобрать какой-нибудь пятидесятилетний извращенец, который любит развлекаться с покрышками от грузовика и держит на чердаке голову своей маменьки».
– Водительские права, – отвечает он.
Он не встает, сидит в кресле, опершись локтями на колени, и еще он опустил голову, я трактую это не как угрозу, а как признак смущения. Смотрю на кисти его рук и представляю, как он моет ими каждый дюйм моего тела.
– Я Эван, – говорит он. – Уокер.
– Привет, – говорю я.
Он усмехается, как будто в сказанном мной есть что-то смешное.