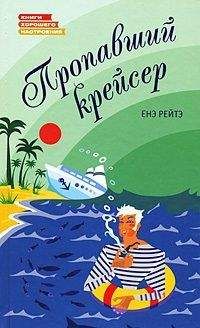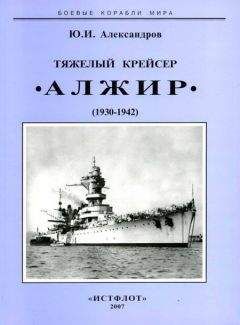Рик Янси - 5-я волна
Эван смотрит так, будто у меня с головой плохо.
– То есть?
– Они нас найдут!
Я хватаю керосиновую лампу, срываю стеклянную колбу и дую на пляшущий язык огня. Огонь шипит, но не гаснет. Эван забирает у меня колбу и устанавливает ее обратно на основание лампы.
– Снаружи минус тридцать семь, до ближайшего жилища не одна миля, – говорит он. – Спалишь дом, и нам конец.
Нам конец? Это попытка пошутить? Но Эван не улыбается.
– Да и путешественница из тебя пока никакая. На поправку уйдет еще минимум три или четыре недели.
Три или четыре недели? Этот парень, версия мистера Брауни с рекламы полотенец, наверное, шутит? Свет в окнах и дым из трубы, да мы и три дня здесь не продержимся!
Эван улавливает градус моей паники.
– Хорошо. – Он вздыхает и гасит лампу.
Комната погружается в темноту. Я его не вижу, мне вообще ничего не видно. Но я чувствую его запах, он пахнет дымом и еще чем-то вроде детской присыпки. Проходит пара минут, и я чувствую, как он перемещается всего в нескольких дюймах от меня.
– Ты сказал, не одна миля? – спрашиваю я. – Черт, где же ты живешь?
– Это ферма нашей семьи. Миль шестьдесят от Цинциннати.
– А до Райт-Паттерсона сколько?
– Не знаю. Может, семьдесят, может, восемьдесят. А что?
– Я тебе говорила – они забрали моего младшего брата.
– Ты говорила, что они сказали, будто повезут его туда.
Наши голоса сплетаются друг с другом в кромешной темноте и снова отстраняются.
– Ну, я должна откуда-то начать, – говорю я.
– А если его там нет?
– Тогда я пойду еще куда-нибудь.
Я дала обещание. Если не исполню его, этот проклятый мишка никогда мне не простит.
А потом я чувствую запах дыхания Эвана. Шоколад. Шоколад! Мой рот наполняется слюной. Я ощущаю, как набухают слюнные железы. Уже несколько недель я не ела нормальную пищу, и что он мне принес? Какой-то жирный бульон из мяса неизвестного происхождения. Этот фермерский выкормыш на мне экономит.
– Но ты же понимаешь, что их много? – спрашивает он.
– А ты что предлагаешь?
Он не отвечает, поэтому я продолжаю:
– Ты веришь в Бога, Эван?
– Конечно верю.
– А я нет. То есть я не знаю. Верила до того, как появились иные. Или считала, что верю, если вообще думала об этом. А потом пришли они и… – Мне пришлось выдержать паузу, чтобы взять себя в руки. – Может, Бог и есть. Сэмми думал, что есть. Правда, он и в Санта-Клауса верил. А я каждый вечер читала вместе с ним его молитву, но она на меня не действовала. Если бы ты видел, как он взял за руку того поддельного солдата и пошел за ним в автобус…
Тут я теряю самообладание, но это не беда. Плакать всегда легче в темноте. Вдруг теплая рука Эвана накрывает мою холодную руку, его ладонь мягкая и гладкая, как наволочка у меня под щекой.
– Меня это убивает, – говорю я сквозь рыдания. – То, как он верил. Как мы верили, пока не явились они и не взорвали этот проклятый мир. Верили в наступившей темноте, что свет все равно будет. Верили, что, когда захочешь клубничный фрапучино, достаточно усесться в тачку и прокатиться по улице, и ты получишь свой долбаный клубничный фрапучино! Мы верили…
Второй рукой он нащупывает мою щеку и большим пальцем стирает с нее слезы.
Эван наклоняется ко мне, и я утопаю в запахе шоколада.
– Не надо, Кэсси, – шепчет он мне на ухо. – Не надо.
Я обнимаю его за шею и прижимаюсь мокрой щекой к его сухой щеке. Меня трясет как эпилептика, и я впервые ощущаю на ступнях вес одеяла – непроглядная темнота обостряет все чувства.
Я превращаюсь в кипящее рагу из обрывков мыслей и чувств. Волнуюсь, что мои волосы могут плохо пахнуть. Хочу съесть плитку шоколада. Этот парень, который сейчас меня обнимает (ну, вообще-то скорее это я его обнимаю), видел меня во всем моем голом великолепии. Что он подумал о моем теле? Богу действительно не наплевать на обещания? А мне Бог нужен? Чудо – это когда расступаются воды Красного моря или когда Эван Уокер находит меня в снежном заносе посреди белой пустыни?
– Кэсси, все будет хорошо, – шепчет Эван, и я чувствую его шоколадное дыхание.
Когда я просыпаюсь на следующее утро, на столике рядом с кроватью лежат «Херши киссес».
35
Каждый вечер Эван уходит, чтобы осмотреть местность вокруг фермы и поохотиться. Говорит, у него большой запас сухих продуктов, и его мама обожала солить и консервировать, но ему нравится свежее мясо. Поэтому он оставляет меня одну, а сам ищет какое-нибудь съедобное существо, чтобы убить его и подвергнуть кулинарной обработке. На четвертый день он входит в комнату с настоящим бифштексом на горячей домашней булке, да еще с жареной картошкой. Это первая настоящая еда с того дня, как я убежала из лагеря с ямой, наполненной человеческим пеплом. А еще это неправдоподобный бифштекс, который я не пробовала со дня Прибытия и за который, как я уже признавалась, готова была убить.
– Где ты взял хлеб? – спрашиваю я с набитым мясом ртом, и жир стекает по подбородку.
Хлеб я тоже давно не ела. Он мягкий, пышный и сладковатый.
Эван мог выдать кучу язвительных ответов, потому что добыть хлеб он мог только одним способом, но не стал подкалывать меня.
– Я его испек.
Покормив меня, он меняет повязку. Я говорю, что мне хочется посмотреть на ногу. Эван уверяет, что мне определенно этого не хочется. Мне бы встать с кровати, принять ванну и снова почувствовать себя нормальным человеком. – Эван возражает: еще рано. Я говорю, что хочу помыть волосы и расчесаться. Эван стоит на своем – не надо торопиться. Я обещаю, если он мне не поможет, разбить об его голову керосиновую лампу. Тогда он идет в конец коридора, в небольшую ванную комнату, и ставит табуретку в ванну на ножках в форме львиных лап. Потом несет меня по этому коридору с ободранными обоями в цветочек, усаживает на табурет и уходит. Возвращается он с бадьей горячей воды.
Бадья, должно быть, очень тяжелая. Бицепсы у него напряжены, как у Брюса Бэннера, наполовину превратившегося в Халка, вены на шее набухают. Вода чуть-чуть пахнет лепестками роз. Я откидываю голову назад, и Эван поливает мне волосы из кувшина для лимонада, с узором из улыбающихся солнышек. Потом он начинает втирать мне в волосы шампунь, но я отталкиваю его руки. Эту часть работы я способна выполнить самостоятельно.
Вода стекает с волос на пижаму, хлопчатобумажная ткань прилипает к телу. Эван кашляет, а когда он поворачивается и его челка крылом скользит по черным бровям, мне становится тревожно, но это приятная тревога. Я прошу расческу с самыми редкими зубцами. Эван ищет в тумбочке под раковиной, а я наблюдаю за ним боковым зрением. Смутно вижу, как двигаются сильные плечи под фланелевой рубашкой, потертые джинсы с дырявыми задними карманами, совсем не обращаю внимания на круглый зад под джинсами, на сто процентов игнорирую тот факт, что мои уши огнем горят, пока теплая вода стекает с волос. Спустя вечность Эван находит расческу и перед тем как уйти спрашивает, не нужно ли мне чего-нибудь еще. Я бормочу «нет», а на самом деле мне хочется плакать и смеяться одновременно.
Оставшись одна, я сосредоточиваюсь на волосах. Они в жутком состоянии – колтуны, кусочки листьев и комочки грязи. Я распутываю волосы, пока вода не становится холодной, и дрожу в намокшей пижаме. За дверью слышен какой-то слабый звук, я замираю на секунду.
– Это ты? – спрашиваю я.
Кафельные стены ванной комнаты усиливают мой голос, как в эхо-камере.
Короткая пауза, а потом тихо так:
– Да.
– И чего ты там делаешь?
– Жду, чтобы ополоснуть тебе волосы.
– Это еще не скоро.
– Нормально, я подожду.
– Почему бы тебе не испечь пирог или еще что-нибудь, а минут через пятнадцать возвращайся.
Ответа не слышно, но и шагов тоже.
– Ты еще там?
Скрип половицы в коридоре.
– Да.
Потратив десять минут на распутывание и расчесывание, я сдаюсь. Эван возвращается и садится на край ванны. Я кладу голову ему на ладонь, а он смывает мыльную воду с моих волос.
– Странно, что ты здесь, – говорю я.
– Я здесь живу.
– Странно, что ты здесь остался.
После того как новости о начале Второй волны просочились вглубь страны, много молодежи собралось у полицейских участков и арсеналов национальной гвардии. Совсем как после одиннадцатого сентября, только все надо помножить на десять.
– Вместе с отцом и мамой нас было восемь, – говорит Эван. – Я старший. После того как родители умерли, я заботился о младших.
– Помедленнее, Эван, – прошу я, когда он одним махом выливает мне на голову полкувшина. – Я так захлебнусь.
– Извини.
Эван ребром ладони, как плотиной, перекрывает мне лоб. Теплая вода приятно щекочет кожу. Я закрываю глаза.
– Ты болел? – спрашиваю я.
– Да, но выздоровел.
Он снова зачерпывает воду кувшином из металлической бадьи, а я задерживаю дыхание в предчувствии наслаждения.
– Моя младшая сестренка, Вэл, умерла два месяца назад. Это в ее комнате ты сейчас живешь. С тех пор я пытаюсь понять, что мне делать дальше. Знаю, что не могу оставаться здесь, но я ходил до самого Цинциннати. Наверное, не надо объяснять, почему я не собираюсь туда возвращаться.