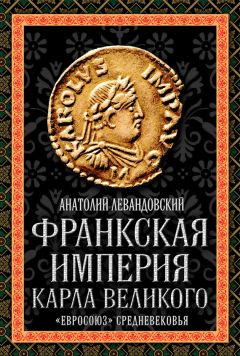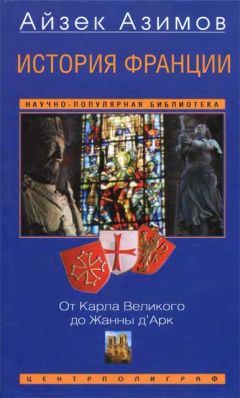Юрий Нестеренко - Приговор
размахивать огнебоем, кидаться коробочками с порошком? Монастырь — это
все-таки очень неплохая крепость. Да и религиозных фанатичек трудно
запугать. Мне ведь нужны не трупы, а ответы.
И тут, пока я пребывал в этих мучительных раздумьях, а Клотильда
нерешительно пятилась вглубь башни, знакомый голос воззвал ко мне
сверху:
— Дольф! Я здесь!
Я вскинул голову. Голос шел, разумеется, не с неба, а с верхушки
крепостной стены. Эвьет бежала по гребню, выскочив из дальней от меня
башни, а две фигуры в рясах гнались за ней. Поняв, что их заметили, они
в растерянности остановились.
— Ах вот как, — широко осклабился я, буравя взглядом Клотильду. -
Ложь — это большой грех, сестра, а ложь в доме господнем — грех сугубый.
Черти в аду вытянут раскаленными клещами ваш лживый язык, проткнут его
ржавым железным крюком и подвесят вас на этом крюке над неугасимым
пламенем…
— Я не лгала! — испуганно взвизгнула монахиня, становясь едва ли не
белее своего вимпла. — Я для ее же блага… Я имела в виду, что она
умерла для мира, но родилась для жизни с Господом…
— Она несовершеннолетняя! — гаркнул я. — Она не может быть даже
послушницей! Тем более — против ее воли!
— Да, но…
— Минута, — процедил я. — Ровно через минуту она должна выйти через
эту дверь. Или епископ узнает, что в монастыре святой Катарины
занимаются похищением детей. И между прочим — детей знатного рода.
— Я не…
— Бегом!!!
Эвьет меж тем на стене препиралась со своими преследовательницами,
пытавшимися увещевать ее льстивыми голосами. Конкретных слов я не
слышал, но они и не были важны.
— Катарина! — крикнул я и помахал рукой (все же следовало до конца
соблюсти конспирацию). — Не волнуйся, сейчас тебя выпустят!
Прошло, действительно, около минуты, и дверь приоткрылась. Именно
приоткрылась, словно монахини боялись, что, отвори они ее полностью, я
ворвусь внутрь, сея смерть и разрушения (по правде говоря, я и в самом
деле недалек был от этого). В образовавшуюся щель выскочила Эвьет -
конечно, не в монашеском облачении, но в не менее уродливом черном
платье до пят, в деревянных башмаках и с белым платком на голове,
оставлявшим открытым только лицо, и то не целиком. Первым делом она зло
сорвала и швырнула на снег этот платок, выпустив на свободу свои заметно
уже отросшие черные волосы. Затем бросилась ко мне. Мы крепко обнялись и
стояли так несколько мгновений.
Затем я поспешно увлек ее к лошадям и принялся распаковывать свой
тюк. Нынешнее облачение девочки совсем не годилось для зимней улицы.
— Где твои теплые вещи? — спросил я.
— Сожгли, — буркнула она. — В первый же день. Непотребное, мол,
мужское одеяние, а личина звериная зубатая — вообще бесовство. Сами они
личины звериные… Волка жалко. Словно его второй раз убили. Ну
первый-то раз это было ради выживания, а сейчас — из-за дури…
— Ну ничего, все-таки он тебе неплохо послужил… Что им от тебя
было надо вообще? Ты же по возрасту не годишься в монахини, даже если бы
сама захотела!
— Им главное было — при монастыре меня оставить, а там за несколько
лет надеялись обработать… Я бы все равно сбежала! Оставалась только
потому, что тебя ждала. Все время старалась к окнам поближе, чтоб не
пропустить, когда приедешь, — она уже набросила беличью шубку и теперь
переобувалась в теплые сапожки. — Черт, до чего ж я ненавижу эту юбку…
Какой болван придумал, что женщины должны ходить в таком? В ногах
путается, за все цепляется, бегать неудобно, снизу поддувает…
— Сейчас быстро доедем до "Когтя", переоденешься там в нормальный
костюм с брюками, — подбодрил ее я. — Заодно и поедим. Ты еще не
обедала?
— Да меня тут в последнее время вообще на хлебе и воде держали! Как
в тюрьме! Гордыню, видите ли, усмиряли…
Я бросил полный ненависти взгляд на монастырь. Ваше счастье,
смиренные сестры, что у меня с собой мало порошка! Впрочем, кара вас все
равно настигнет…
— Сначала я, как мы и договаривались, изображала из себя тихоню и
примерную верующую, — продолжала рассказывать Эвьет. — Плата за постой и
все такое, — именно так я назвал в январской беседе с ней необходимость
подчиняться монастырскому уставу. — Но эти… им же палец дай — всю руку
по плечо обглодают! Удумали, что им и впрямь попался смирный ягненочек,
и надо-де его от мира "спасти", ибо "несть спасения вне стен сих…"
Замучили совсем своими тупыми молитвами! Кем они вообще считают своего
бога?! Вот мне бы, например, разве бы понравилось, если бы мои служанки
собрались у меня под окнами и сутками напролет гундосили, чтобы я их
помиловала? А уж поп этот проклятый… исповедник… Я ему, конечно,
правды не рассказала, только нашу версию, — легенда Эвелины, на самом
деле, была основана на реальности — гибель семьи от рук солдат, захват
поместья — только сильно упрощена: вместо трех с половиной лет назад
события были отнесены к совсем недавнему времени (за многолетний срок
без исповеди и соблюдения церковных обрядов девочку замучили бы
епитимиями), Карл и иные сильные мира сего, естественно, не упоминались,
равно как и всё, связанное с местью, а пытки объяснялись охотой не за
порошком, а за банальным семейным золотом. — Но уж как ему все
подробности знать хотелось! Как во все детали лез! Про тебя все
расспрашивал — родной ли ты дядя, да по папе или по маме, да с какого
возраста я тебя знаю… я уже начала думать, что он донести хочет,
награду за нас получить. Ну и плела, конечно, такое, чтоб в тебе ученого
в жизни заподозрить было нельзя… что ты едва по складам читаешь и в
том же духе… а потом он такое спрашивать начал! — Эвьет скривилась от
отвращения и гнева. — Про нас с тобой… такие мерзости… я сперва и
понять не могла, о чем он! Тогда он стал уточнять, в таких, знаешь,
деталях — даже хуже, чем то, что солдаты делали с Женевьевой! Я поняла,
что это тоже из этой области, но — гораздо хуже! Не делала ли я тебе…
не просил ли ты меня… нет, я даже повторить это не могу! Меня чуть не
вырвало, когда я в первый раз про такое услышала, и даже сейчас комок к
горлу подступает! Я поверить не могла, что люди делают такое друг с
другом! А ему, ты представь, нравилось! Глазки поросячьи так и блестели,
когда он про это говорил! И все повторял, чтоб я призналась, что