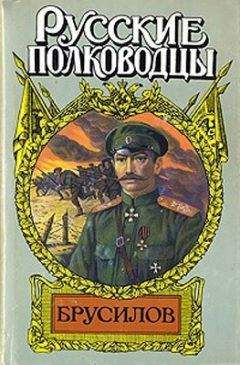Беатриче кота Брамбиллы (сборник) (СИ) - Слезкин Юрий Львович
Я нервничал, как влюбленный, которому назначили свидание, я хватался то за книгу, то просто так, ни о чем не думая, смотрел сквозь большое полукруглое окно на крыши соседних домов и сизую даль взморья. Наконец, в половине первого, когда всякая надежда оставила меня, когда я, мрачный и подавленный, исступленно занялся очинкой карандашей — дверь отворилась, и на пороге появилась Вера Орестовна.
— Наконец-то! — совсем непроизвольно вырвалось у меня, и я кинулся ей навстречу.
— Разве я так опоздала? — удивленно спросила она. — Ну вот, это всегдашнее мое обыкновение… Вы не сердитесь?..
Конечно, я уверил ее, что ничуть не сержусь.
Она с деловым видом сняла шляпу и пальто, одобрительно оглядела мою комнату, потерла руками замерзшие щеки и улыбнулась.
— Что же? Я готова. Надо спешить, так как скоро будет темно, а меня ждет моя Женя.
Казалось, я больше смущался, чем она. Привыкший равнодушно глядеть на обнаженных женщин, я боялся думать о том, что увижу Веру Орестовну голой, и рад был, что она сама предложила начать сеанс.
Она зашла за ширмы, а я занялся приготовлениями. Когда, окончив, я поднял глаза, то увидел перед собой обнаженное тело своей натурщицы. Она только опустила лицо, на котором горела легкая краска смущения, но движения ее были свободны, руки лежали вдоль узких бедер, маленькая крепкая грудь дышала спокойно.
Как я ни боялся этого мгновения, но ее спокойствие сразу же вернуло мне ушедшее было самообладание, а чистое девичье тело, тело Хлои, не давало зародиться никаким темным мыслям.
Я начал работать.
Потом я увидел, что Вере Орестовне стало холодно; бросил уголь и хотел накинуть ей на плечи вот эту шаль, что ты видишь на том диване. Чудную алую шаль, привезенную с Востока, — мою гордость. Но модель, с непонятным мне ужасом, отшатнулась от нее и, молчаливая, забилась в угол. На мои просьбы и вопросы она отвечала молчанием; потом быстро оделась и ушла.
На другой день она пришла с девочкой. Она объяснила это тем, что соседка ее плохо смотрела за Женей, и Женя разбила себе головку. Она показывала мне синяк на лобике дочери, и я должен был поцеловать это место.
Пока мать стояла обнаженная передо мной и не переставая болтала, вспоминая свою гимназическую жизнь, ее дочь ползала по ковру, рвала валявшиеся бумаги, забавно лепетала на своем непонятном языке и, наконец, заставила меня прибирать за собою.
Так это продолжалось и в следующие дни.
Меня все более удивляло то непонятное в начинающей спокойствие, с которым Вера Орестовна держалась при мне обнаженной. Даже обычной краски не видал я у нее в последующие дни. Она стояла — нагая — так же непринужденно, как и одетая в свою старенькую кофточку, — говорила много забавных вещей, передвигая мою мебель, забираясь в папки с этюдами, и точно не замечала, что она голая.
Сначала я принял это за бесстыдство, меня даже покоробило несколько, — потом я понял, что хотя она и женщина, и у нее есть ребенок, но в ней еще не проснулся инстинкт самки, и она не знает всей жгучей прелести стыда.
Тогда я полюбил ее — эту странную, дикую девушку-мать, — полюбил ее голос, ее встревоженную душу, ее холодное в своей невинности тело. Я пытался проникнуть в тайну ее мыслей, — всегда необычных и неожиданных, в непонятную неровность любви ее к девочке своей, похожей, по ее словам, на отца; болел за ее одиночество. А она только смеялась или рассказывала, безразличная к внешним событиям жизни и болезненно-чуткая к ее тайнам.
Как-то раз, с большими предосторожностями, боясь любопытством своим встревожить ее больное место (оно мне казалось тогда таким), я спросил ее о ее возлюбленном.
— Почему вы расстались? — спросил я.
Я уже знал, что он сильно любил ее, хотел жениться на ней (он был женат и вел дело о разводе с женою), но я никак не мог понять их размолвки.
— О, я изводила его ежедневно, я доводила его до бешенства, — без тени неудовольствия ответила мне Вера Орестовна. — Я плевала в него, рвала его бумаги, отнимала у него свои карточки… Он умолял меня не делать этого, падал на колени, целовал руки, унижался передо мною, иногда бил меня… Как он смешон был в такие минуты!..
Она искренне рассмеялась.
— Вы знаете, он совсем потерял самолюбие… и хотя его жизнь превратилась в ад — не уходил от меня.
Я смотрел на эту женщину и не верил своим ушам, я не находил слов.
— Наконец, я ушла сама от него, — добавила уже тише Вера Орестовна, — и написала, что не люблю, хотя любила по-прежнему… Он молил вернуться — я не вернулась.
— Но с чего же началось ваше охлаждение? — все еще не понимая, допытывался я.
— О, я хорошо не помню… из-за пустяков… Сначала я была очень уравновешенной. Я всегда успокаивала его, когда он нервничал, но потом… Он объяснял это моей ранней беременностью… щекотливостью моего положения, нашей необеспеченностью… быть может, я не знаю… Но это началось с того дня, как он надел красный галстук…
— Красный галстук? — растерявшись, спросил я.
— Да, — красный галстук…
— Но почему же? Вам он не нравился? Да наконец, разве можно ломать жизнь из-за такого пустяка!..
Я волновался, расспрашивая ее, но она уже больше не говорила, и лицо ее стало безразличным, ничего не выражающим.
Она ушла в этот день так же скоро, как и тогда, когда я хотел накинуть ей на плечи снова восточную шаль.
Случилось так, что Вера переехала ко мне совсем.
Это вышло неожиданно, как и все, что она делала в минутном порыве, быть может, и искренней любви; неожиданно до того, что я и сам не мог опомниться. Конечно, это стало давно моим сильнейшим желанием, я не высказывал его, но она угадала и совершенно просто спросила меня:
— Хочешь, мы будем жить вместе?
С этого дня я стал ее рабом, послушным исполнителем малейшего ее желания. Я почти забывал о себе, о своих обязанностях, о своих друзьях. Была ли то чувственность? Вряд ли… Любовь… — не знаю. Чувство это было сильнее чувственности и острее любви. Нас ничего не связывало, как людей. У меня до того дня были свои интересы, свои цели, чуждые ей, а теперь они все растаяли, заменившись одной мыслью о Вере.
У нее никогда не было никаких стремлений, она жила Бог знает чем; Бог знает, какой источник поил ее душу. Жизнь моя вся ушла в мелочи, в заботы. Я бредил с открытыми глазами. Иногда, вырвавшись из этого угара на свежий воздух, я невольно оглядывался, точно после сна, и с тоской видел, что жизнь уплывает от меня, что все уже ушло вперед, а я, как оторванная от буксира лодка, беспомощно кручусь в водовороте. Но я был счастлив. Это было похоже на приступы начинающейся болезни, на первую затяжку опиумом. Время переставало существовать, голова кружилась, мысли путались…
Но это далеко не было безмятежное счастье.
Вера никогда не была ровна со мною. Она то ни на шаг не отпускала меня от себя, то запиралась в своей комнате и не хотела меня видеть.
— Ты мне противен, — раздраженно говорила она, — можешь уходить сегодня же на весь день…
— Но почему же?
Она едко улыбалась и молчала. В такие минуты лицо ее было отвратительно, — я готов был задушить ее своими руками. Но все-таки я не уходил, не уходил, как и тот, ее первый муж. Я всегда оказывался виноватым и вымаливал прощение.
Я не узнавал себя, я не знал, куда ушла моя былая гордость. Минутами я сам себе был противен.
«Надо взять себя в руки, — думал я. — Ты похож на тряпку, ты перестал быть мужчиной…»
Но стоило ей взглянуть на меня ласково, сказать пустое слово, и я опять терял над собою волю.
Прости, я уклонился в сторону. Невольно в воспоминаниях своих я ушел от главного. Ты видишь теперь, с кем столкнула меня судьба, что это был за человек.
— Ты знаешь, мы тут долго не проживем, — сказала она вскоре после переезда ко мне.
— Почему ты думаешь?
— Да так, я знаю…
— Но все-таки?
— Ты разве не слышал? каждую ночь скрипит паркет.
— Слышал… но это оттого, что дом наш недавно выстроен.