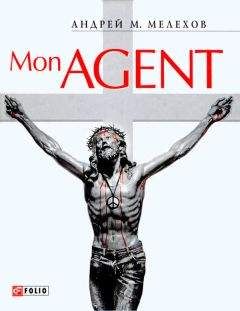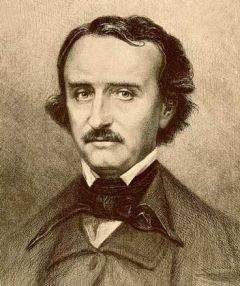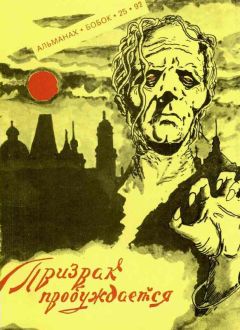Роальд Даль - Звуковая машина
Какое-то время Клаузнер возился с проводкой внутри чёрного ящика. Потом он выпрямился и взволнованно прошептал:
— Ещё одна попытка… Вынесем наружу… тогда, может быть… может быть… приём будет лучше.
Он открыл дверь, взял ящик, не без труда вынес его в сад и осторожно опустил на деревянный столик на лужайке. Потом принёс из мастерской пару наушников, включил их и поднёс к ушам. Движения его были быстрыми и точными. Он волновался, дышал шумно и торопливо, открыв рот. Порой он снова начинал заговаривать сам с собой, утешая и подбодряя себя, словно боялся и того, что машина не сработает, и того, что она будет работать.
Он стоял в саду возле деревянного столика, бледный, маленький, худой, похожий на высохшего, старообразного ребёнка в очках. Солнце село. Было тепло, безветренно и тихо. С того места, где Клаузнер стоял, он видел через низкую ограду соседний сад. Там ходила женщина, повесив через плечо корзинку для цветов. Какое-то время он машинально наблюдал за ней. Потом повернулся к ящику на столе и включил свой прибор. Левой рукой он взялся за контрольный переключатель, а правой — за верньер, передвигавший стрелку на полукруглой шкале, вроде тех, какие бывают у радиоприёмников. На шкале виднелись цифры — от пятнадцати тысяч до миллиона.
Он снова нагнулся над машиной, склонивши голову набок и внимательно прислушиваясь, а потом правой рукой начал поворачивать верньер. Стрелка медленно двигалась по шкале В наушниках время от времени слышалось слабое потрескивание — голос самой машины. И больше ничего.
Прислушавшись, он ощутил что-то странное. Будто его уши вытянулись, поднялись вверх и будто каждое соединено с головой тонким, жёстким проводом, который всё удлиняется, а уши уплывают всё выше и выше, к некоей таинственной, запретной области ультразвуков, где они никогда ещё не были и, по мнению человека, не имеют права быть.
Стрелка продолжала медленно ползти по шкале. Вдруг он услышал крик страшный, пронзительный крик. Вздрогнул, уронил руки, опёрся о край стола. Огляделся, словно ожидая увидеть существо, испустившее этот вопль. Но вокруг не было никого, кроме женщины в соседнем саду. Кричала, конечно, не она. Нагнувшись, она срезала чайные розы и клала их в корзинку.
Крик повторился снова — зловещий, нечеловеческий звук, резкий и короткий. В этом звуке был какой-то минорный, металлический оттенок, какого Клаузнер никогда не слышал.
Клаузнер снова огляделся, пытаясь понять, кто же кричит. Женщина в саду была единственным живым существо в поле его зрения.
Он увидел, как она нагибается, берёт в пальцы стебель розы и отрезает его ножницами. И снова услышал короткий вопль.
Крик раздался как раз в то мгновение, когда женщина перерезала стебель.
Она выпрямилась, положила ножницы в корзинку и собралась уходить.
— Миссис Саундерс! — громко, в волнении закричал Клаузнер. — Миссис Саундерс!
Обернувшись, женщина увидела своего соседа, стоявшего на газоне, странную фигуру с наушниками на го лове, размахивающую руками; он окликнул её таким пронзительным голосом, что она даже встревожилась.
— Срежьте ещё одну! Срежьте ещё одну, скорее, прошу вас!
Она стояла, словно окаменев, и всматривалась в него. Миссис Саундерс всегда считала, что её сосед большой чудак. А сейчас ей казалось, что он и вовсе сошёл с ума. Она уже стала прикидывать, не побежать ли ей домой, чтобы вызвать мужа. «Но нет, — подумала она, — уж доставлю ему такое удовольствие».
— Конечно, мистер Клаузнер, если вам так хочется. Она взяла ножницы из корзинки, наклонилась и срезала розу.
Клаузнер снова услышал в наушниках этот необычный вопль. Он сорвал наушники и подбежал к ограде, разделявшей оба сада.
— Хорошо, — произнёс он. — Достаточно. Но больше не нужно. Умоляю вас, больше не нужно!
Женщина замерла, держа в руке срезанную розу, и смотрела на него.
— Послушайте, миссис Саундерс, — продолжал он. — Я сейчас скажу вам такое, что вы и не поверите.
Он опёрся на ограду и сквозь толстые стёкла очков стал всматриваться в лицо соседки.
— Сегодня вечером вы нарезали целую корзинку роз. Острыми ножницами вы кромсали плоть живых существ, и каждая срезанная вами роза кричала самым необычным голосом. Знали ли вы об этом, миссис Саундерс?
— Нет, — ответила она. — Конечно, я ничего не знала.
— Так вот, это правда. — Он старался совладать со своим волнением. — Я слышал, как они кричали. Каждый раз, когда вы срезали розу, я слышал крик боли. Очень высокий звук — примерно 132 тысячи колебаний в секунду. Вы, конечно, не могли его услышать, но я — я слышал.
— Вы и вправду его слышали, мистер Клаузнер? — Она решила как можно быстрее ретироваться.
— Вы скажете, — продолжал он, — что у розового куста нет нервной системы, которая могла бы чувствовать, нет горла, которым можно было бы кричать. И вы будете правы. Их нет. Во всяком случае, таких, как у нас. Но откуда вы знаете, миссис Саундерс… — Он перегнулся через ограду и шёпотом взволнованно заговорил: — Откуда вы знаете, что розовый куст, у которого вы срезаете веточку, не ощущает такой же боли, как вы, если бы вам отрезали руку садовыми ножницами? Откуда вы это знаете? Куст живой, разве не так?
— Да, мистер Клаузнер. Конечно, так. Доброй ночи. Она быстро повернулась и побежала к дому. Клаузнер вернулся к столу, надел наушники и опять принялся слушать. Снова он слышал только неясное потрескивание и жужжание самой машины. Наклонился, двумя пальцами взял за стебелёк белую маргаритку, росшую на газоне, и медленно тянул, пока стебелёк не оторвался.
С того момента, как он начал тянуть, и пока стебелёк не оторвался, он слышал — явственно слышал в наушниках — странный, тонкий, высокий звук, какой-то совсем неживой. Он взял ещё одну маргаритку, и снова повторилось то же. Он снова услышал крик, но на этот раз не был уверен, что в нём выражается боль. Нет, это была не боль. Скорей удивление. Но так ли? Похоже, что в этом крике не ощущалось никаких эмоций, знакомых человеку. Это был попросту крик, бесстрастный и бездушный звук, не выражающий никаких чувств. Так было и с розами. Он ошибся, назвав этот звук криком боли. Куст, вероятно, не ощущал боли, а что-то другое, неизвестное нам, чему нет даже названия.
Он выпрямился и снял наушники. Сгущались сумерки, и только полоски света из окон прорезали темноту.
На следующий день Клаузнер вскочил с постели, чуть только рассвело. Он быстро оделся и кинулся прямо в мастерскую. Взял машину и вынес, прижимая к груди обеими руками. Идти с такой тяжестью было трудно. Он миновал дом, открыл калитку и, перейдя улицу, направился к парку.