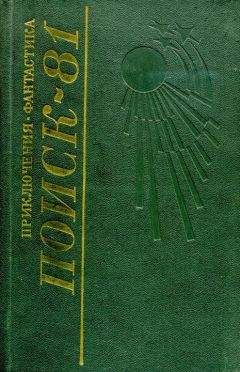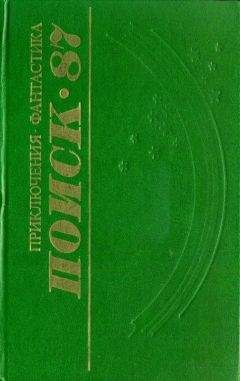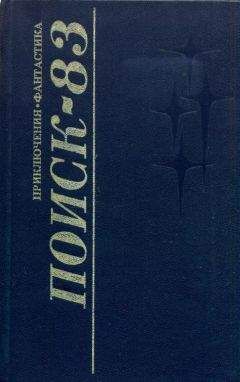Ефрем Акулов - Поиск-84: Приключения. Фантастика
Через неделю он принес фигурки двух медведей и оставил их у входных дверей в сени. И подследил такую картину: по субботним вечерам Клавдия топит баню на своем огороде. Первой согнать жар-первач обычно ходит одинокая и уже немолодая женщина, вдова солдата, Устинья Прохоровна. После нее, минут через сорок, в баню отправляется Клавдия с девочками. Младших женщины моют вместе, наскоро, и Клавдия отправляет их домой первыми. Затем уходит Устинья. Клавдия кончает банные хлопоты последней.
Эти наблюдения навели Степана на мысль: встретиться с женой в бане в то время, когда она останется одна.
В очередную субботу отец не пустил его разгуляться — расхворался. Еще через неделю, в субботу, с утра до вечера лил дождь, и Степан сам не пошел.
И все-таки выждал, улучил момент Степан. Все произошло так, как и задумал он: прокрался, в предбанник и, затаившись, стал ждать. Чем дольше было его томление, тем сильнее колотилось его сердце, от чего он вздыхал глубоко и часто. И вот распахнулась дверь, и на пороге была она. Степан шагнул к ней с выброшенными вперед руками, да так и замер с полуоткрытым ртом: окончательно и бесповоротно потерялись приготовленные слова.
Клавдия, как только увидела мужа, зашлась сердцем и уронила к ногам сверток белья; словно смертельно обиженная девочка, часто-часто зашмыгала она носом. И, как была полуодетая, неприбранная, прокаленная банным паром, грохнулась на грудь мужа и крепко прижала его к себе. Только и вырвалось помимо ее воли:
— Степушка, родной мой!
Пахло от Клавдии яблоками и свежей ржаной соломой. Когда схлынула крутая волна озноба, Степан услышал, как жадно и упорно, в один такт, выговаривают их сердца: «Жить! Жить! Жить!»
Глава тринадцатая
За Иволгой кричали коростели и весело нащелкивали соловьи. Запах тмина и укропа, цветущих луговых трав першил в горле горьковатой пряностью. За дальними увалами занималась заря.
Они — муж и жена — сидели и сидели в предбаннике, забыв о том, как коротки летние ночи. Обо всем было переговорено. Клавдия уже не прижималась к своему Степану: в душу ее запал и ширился холодок от предчувствия недоброго. И Степан словно со стороны смотрел на себя и не узнавал. И понимал: не оплаченным, не своим счастьем пользуется он, что не здесь его место в этот вечер, раз другие отвели беду от его семейного порога, что пришел он сюда на все готовое, что дома он, да не имеет права называться хозяином.
Где-то в стороне дальнего шихана заря сошлась с зарей; над Иволгой клубился белесый сырой туман, медленно, но плотно обволакивая прибрежные кусты; перекликались разноголосые петухи; на перекате меж крутых берегов переговаривалась вода.
Долго и утомительно рассказывал Степан своей жене о себе, рассказывал и ждал ее сострадания. Знал, предвидел, сердцем чувствовал: только от нее может прийти к нему облегчение. А Клавдия уже не раз делала попытку высвободить руку из руки мужа. Подняла связку белья и совсем неожиданно для себя сказала:
— Не ходи сюда боле. Одной куда милее, чем так-то, по-воровски… Обвыклась ведь я.
От этих слов захолонуло сердце Степана, захолонуло и оборвалось. Однако все еще продолжал он сжимать ее руку, словно боялся: выпустит и упорхнет она от него навсегда, а с нею — и вся его жизнь. И Клавдии было понятно его состояние. Говорила и не говорила, а размышляла вслух:
— Испугался он!.. Юбку бы надел, баба… худоба этакая! Надо было мне самой на фронт отправиться, а тебя тут оставить. Может, отличился бы с бабами-то. О семье надо было думать.
— Пойми, — прервал ее Степан, — танки нас утюжили, людей на гусеницы наматывало. Жуть ведь что творилось!
— Так тебе и поверю — «наматывало». Уж лучше бы намотало, чем так-то вот, вором ходить по земле.
— Пошла ты к… — Степан рывком поднялся и отбросил руку жены. — Героя из себя строишь, прости бог! Мне, может, лучше смерть было принять? Поглите-ко, не верит!
Клавдия на шаг отступила от Степана. Всего на один шаг, но этим было сказано многое. Теперь они стояли друг против друга на расстоянии двух вытянутых рук. Губы ее были жестко сомкнуты. Обиженным голосом, почти полушепотом заговорила:
— Героем меня назвал… Герой я или нет, а как ты, тягу с фронта не дала бы.
Все еще не преодолев в себе негодования, Степан взъелся:
— Все вы тут в героях ходите, не нюхамши пороха…
— Ой, Степка, — перебила его Клавдия, — тебе лучше сгинуть, скрозь землю провалиться, чем вот так мельтешиться да озлоблять народ.
— А ты, небось, еще раз замуж выскочишь? Теперя вон какие орлы едут с фронта. Вся грудь в золоте.
— Успокойся! Не надо замужеств мне теперь: дочки на руках.
Помолчала и стала вслух размышлять над словами мужа:
— Героем меня назвал. А как, по-твоему, рассудить? Ночь-полночь поднималась и шла на ферму. Одна телят сторожила. Волки ведь совсем одолевали. Один раз меня-то чуть не растерзали. Совсем прижали к стене. Не помню, как в руках оглобля оказалась, не знаю, откуда силы во мне взялись. И оглоблей этой, не знаю, отбилась бы ли, если бы народ не прибежал. Говорят, благим матом орала на всю деревню. Вот… орала, а не убежала. И на следующую ночь опять волки приходили, а я догадалась, колоколец с собой прихватила да спички. Ферму-то ведь чуть не спалила. Ну, а потом нам ружье выдали.
У тети Паши на дежурстве раз так-то было. Волки через крышу пробрались в конюшню и враз восемнадцать телят порешили. Так она, бедная, с горюшка чуть с ума не сошла. Той же ночью с фермы домой шла и на нее волк набросился. Все позади бежал, она и думала: собака какая. Хотел ей горло перервать, а она в шали была, так не смог. Тетя Паша изловчилась и за язык его ухватила. Ухватила и к дому привела. Палкой всю башку поганому измолотила. Вот и гляди, какие мы!
Степан не дослушал.
— Неужто от сердца тупым ножом мужа своего, Клава? Ведь одного же курня ягоды…
— Одного.
— Тогда чего ж ты так-то со мной? Ведь и любовь тоже была.
— А того… И на одном курню ягодки разные бывают. До одной дотронуться нельзя — опадет, а другая зеленец зеленцом до самых заморозков, или на сторожке засохла. Вот и думай теперь. Так-то, Степа. Пошла я, уже и печь затапливать время.
Потайной волчьей тропой брел Степан в то утро в свое логово за Кузяшкиным болотом. Брел, как после хмельного пира, на котором нароком обнесли его чаркой и оговорили.
Глава четырнадцатая
Грозовые, обагренные догорающими лучами солнца тучи со страшной скоростью двигались в сторону Крутояр, обложив все небо. Издали, из-за туч, доносились глухие рычащие раскаты грома. Потянуло прохладой. На отлогом плоскогорье за Иволгой по пшеничному полю чередой заходили высокие зеленые волны; на огородах били поклоны земле выбросившие цвет подсолнухи; над домами беспокойно, порывисто шумели тополя. И вот дорожную пыль стремительно и яро прострелили редкие, но тяжеловесные капли дождя. После их падения ветер поутих, и в это время, словно спохватившись, вспомнив о своем назначении, дождь неистово принялся охаживать землю, крыши домов, крапиву возле изгороди тугими прозрачными жгутами.