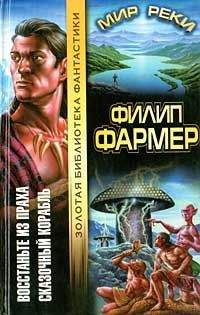Филип Фармер - Одиссея Грина
— Остановите этого сукина сына! — кричит директор Фестиваля. — Он вызовет волнения, как в прошлом году.
В зал входят полицейские. Чиб глядит на Люскуса, который что-то говорит фидорепортеру. Чиб не слышит, что он там говорит, но уверен, что это не комплименты в его адрес.
«Мелвилл писал обо мне до того, как я родился.
Я — человек, который хочет понять
Вселенную, но помять в привычных для себя терминах.
Я Ахав, чья ненависть может пронзить, разметать
Все препятствия Времени, пространства или
Повергнуть смерть и швырнуть мою
Раскаленную злобу в Лоно Созидания,
Руша в этой берлоге все Силы
И Неизвестную Вещь В Себе, скорчившуюся там,
Далекую, заброшенную, хранящую свою тайну».
Директор делает полицейским знак убрать Руника. Раскинсон все еще кричит, хотя камеры уже переходят с Руника на Люскуса. Одна из членов Молодого Редиса, Хьюга Уэллс-Эрб Хайнстербери, автор научно-фантастических рассказов, бьется в истерике, вызванной голосом Руника, и в ней поднимается неодолимое желание мстить. Она бросается на представителя программы «Тайм». «Тайм» много лет назад прекратил свое существование как журнал, потому что журналов не стало, но превратился в бюро информации, пользующееся поддержкой правительства. «Тайм» — это пример двуличной политики Дядюшки Сэма, политики умывания рук. С одной стороны, правительство снабжает бюро информацией, с другой стороны — разрешает ему использовать ее по своему усмотрению. Таким образом, объединяются линия правительства и свобода слова (в теории, по крайней мере).
У «Тайма» несколько основных линий, поэтому правда и объективность могут быть принесены в жертву остроумию, научная фантастика может быть отделена от работ Хайнстербери, и она просто не в состоянии получить персональную сатисфакцию за удары, наносимые неблагоприятными отзывами.
Кто на этот раз? Кому это нужно?
Время? Пространство? Материя? Случайность?
Когда умрешь — ад? Нирвана,
Ничто, значит, нечего думать об этом.
Пушки философии грохочут.
Их снаряды — пугала.
Разлетаются аммиачные кучи теологии,
Взорванные диверсантом-Доводом.
Называйте меня Эфраимом, ибо я был остановлен
У Божьего брода, и не помог язык
Мой свистящий пройти мне.
Пусть не могу я произнести «шибболет»[15],
Но я могу сказать «шит»[16].
Хьюга Уэллс-Эрб Хайнстербери пинает человека из «Тайма» в пах. Он выбрасывает руки вверх, и круглая камера, величиной с футбольный мяч, выскальзывает из его ладоней и ударяет по голове какого-то юношу. Это член Молодого Редиса Людвиг Эвтерп Мэльцарт. Он дымится от ярости из-за того, что отвергнута его тональная поэма «Метая содержимое будущих геенн», а камера — последняя капля, делающая его абсолютно неуправляемым. Он немедленно бьет музыкальных критиков в их жирные животы.
Хьюга, а не корреспондент, кричит от боли. Пальцы ее ног ударили в пластиковую броню, которой репортер, памятуя о бесчисленном множестве подобных ударов, защитил уязвимое место. Хьюга скачет на одной ноге, обхватив другую рукой. Она сталкивается со стоящей рядом девушкой, и тут происходит цепная реакция. Вокруг корреспондента, нагнувшегося, чтобы подобрать камеру, валятся люди.
«А-а-а-а!» — визжит Хьюга. Она срывает шлем с фидо-корреспондента, вскакивает на него верхом и бьет его по голове оптической стороной камеры. Поскольку камера сделана на совесть и все еще работает, она передает миллионам зрителей весьма интригующий, даже, пожалуй, захватывающий спектакль. Кровь заливает фидо с одного края, но не настолько, чтобы сквозь нее ничего не было видно. А затем зрители испытывают новый шок: камера взмывает в воздух, бешено вращаясь.
Болван тычет Хьюгу в спину электрической дубинкой, она дергается, отбрасывает камеру, и та летит вверх по высокой дуге. Очередной любовник Хьюги бросается на болвана, и они катятся по полу; подросток из Вествуда поднимает дубинку и забавляется, заставляя дергаться окружающих его взрослых, пока парнишка из местных не сбивает его с ног.
— Волнения — опиум народа, — стонет шеф полиции.
Он вызывает все отделения, а заодно и шефа полиции Вествуда, у которого, впрочем, своих забот по горло.
Руник бьет себя в грудь и выкрикивает нараспев:
«Сэр, я существую!
И не кукуйте
Что это не накладывает
На вас никаких обязательств передо мною.
Я человек, я уникум.
Я выбросил Хлеб в окно,
Я мочился в Пино, я вытащил затычку
Из днища Ковчега и распилил Древо
На дрова, а если бы вблизи оказался
Дух Святой, я бы освистал его.
Но я знаю, что все это не означает
Ничего неугодного Богу,
Что Ничего и не значит, ничего,
Что есть — это „есть“, а не есть, не есть „пет“,
Что роза есть роза,
Что мы есть, но нас не будет,
И это все, что мы можем знать!»
Раскинсон видит, что Чиб направляется к нему, пригибается и пытается удрать. Чиб хватает холст с «Постулатами Пса» и бьет им Раскинсона по голове. Люскус протестующе кричит, но не из-за того, что Раскинсона могут покалечить, а из-за того, что так можно повредить картину. Чиб разворачивается и с силой заезжает ему в живот овальным краем.
Земля сотрясается, словно идущий ко дну корабль.
Ее спина почти сломлена потоком
Экскрементов с небес и из глубин,
Которым Бог в великой щедрости своей
Пожаловал Ахава, услыхав его крик:
«Одно дерьмо! Одно дерьмо!»
Я рыдаю при мысли, что вот — Человек,
А вот — его конец. Но погодите!
На гребне волны трехмачтовая
Древняя тень — «Летучий Голландец»!
И Ахав снова стоит на палубе.
Смейтесь, жирные, издевайтесь,
Ибо я есть Ахав и я — Человек,
И хотя я не могу проломить дыру
В стене Кажущегося,
Чтобы захватить горсть Настоящего,
Я все же продолжаю в нее стучать.
Ни я, ни мой экипаж не отступимся,
Хотя тимберсы трещат под нашими ногами.
Мы погружаемся, становясь неотличимыми
От окружающих нас экскрементов.
На мгновение, которое будет выжжено
В глазах Господа навечно, Ахав выпрямляется
Очерченный символом Ориона.
В кулаке зажат окровавленный фаллос.
Он словно Зевс, показывающий трофей
После кастрации отца своего Хроноса.
А потом и он, и его экипаж, и корабль все быстрее
Погружаются и несутся
К центру мира.
И я слышу, что они до сих пор п
а
д
а
ю
т.
Чиб превращается в дрожащую массу от удара электрической дубинки. Когда он приходит в себя, то слышит из динамика, спрятанного под шляпой, голос дедушки.