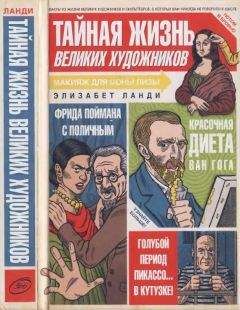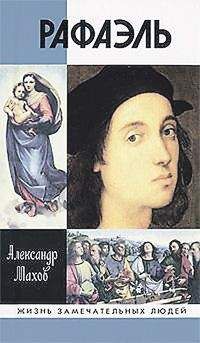Мэтт Риз - Имя кровью. Тайна смерти Караваджо
Костанца вошла в комнату. Караваджо показалось, что ожил семейный портрет из его воспоминаний. По контрасту с нетронутыми сединой черными волосами ее кожа была так бледна, что, пожалуй, в палитре Караваджо едва ли нашлась бы белая краска, способная передать ее оттенок; во всяком случае, так подумалось художнику. Может быть, он смог бы изобразить нечто подобное жемчужным порошком и голубиными перьями, но такие ухищрения более пристали колдуну, нежели художнику. Гладкость ее кожи, почти без единой морщинки, тоже казалась волшебной. Когда Костанца шла к нему по терракотовому полу, карие глаза ее в свете двурогого канделябра блестели, как темные вишни.
– Микеле, – она протянула ему обе руки. Караваджо прильнул к ним долгим поцелуем, вдыхая запах жасмина. Он уже привык к женщинам, чьи пальцы пахли только грязью и тяжелой работой.
– Счастлив, что вы снова в Риме, госпожа. Давно вас не видел.
– Я вообще-то не собиралась приезжать сюда, – голос ее звучал неуверенно. – Вижу, с моего прошлого приезда кое-что изменилось: ты больше не синьор Меризи. Теперь ты зовешься именем родного города.
– Да, теперь я известен как Караваджо. Хотя на самом деле этот титул принадлежит вам.
– Мне как маркизе Караваджо твоя слава делает честь. Благодаря твоим картинам мое имя теперь на устах у каждого римлянина.
«Если бы вы услышали, что обо мне говорят, – подумал он, – вы бы так не сказали».
– В поместье все благополучно?
– Вполне. Твоя сестра Катерина родила еще одного ребенка – девочку. Назвали Лючией, в честь твоей матери, да упокоит ее Господь.
– Матерью мне были вы.
Она прокашлялась, чтобы скрыть неловкость, и судорожно вдохнула. Огоньки канделябра тревожно замерцали, словно заразившись ее нерешительностью.
– В детстве ты был мне как сын. Теперь ты вырос, но я до сих пор тебя люблю.
Он сжал ее руку и осторожно погладил пальцем.
– Я вспоминаю о вашем великодушии каждый раз, когда жизнь в Риме становится слишком. слишком жестокой.
Она опустила глаза.
– Мне нужна твоя помощь.
Пламя свечей нежно золотило белую кисею у нее на груди.
– Я к вашим услугам, госпожа.
– Микеле, Фабрицио попал в беду.
Горло Караваджо сжалось так, что он едва мог дышать.
– Фабрицио в Риме? – хрипло спросил он.
– Да.
– Что случилось?
– Поединок.
– Разве у вас некому позаботиться о таких вещах? Кошель пострадавшему, взятка тем, кто держит Фабрицио под стражей.
Но, говоря это, он уже понимал: положение слишком серьезно и обычные меры не помогут. Фабрицио и впрямь в опасности.
– Убит один из Фарнезе, – прошептала она.
«Что же ты наделал, Фабрицио?» Микеланджело перебрал в уме знакомых, которые могли помочь сыну Костанцы. На шее у него забилась жилка – будто бы в такт тем чувствам, что сейчас, наверное, охватили маркизу.
Два борца на площади символизировали противостояние между двумя великими домами. Каждая семья владела монументальным дворцом в Риме и войском вассалов, вооруженных дубинами и кинжалами и готовых пролить кровь. Он подумал о Фабрицио и каком-нибудь вспыльчивом молодом герцоге Фарнезе. То же кровопролитие, только оружие благороднее. Да и последствия, Микеле, будут для тебя тяжелее, если ты вмешаешься.
Он смотрел в умоляющие глаза Костанцы. Да, она очень помогла ему в жизни. Но если он в свою очередь поможет ей, это поставит под угрозу его собственное положение, завоевать которое ему стоило стольких трудов. Караваджо понял, что она видит его колебания и что ей больно за ними наблюдать.
«Это тебе не проигрыш Рануччо. Ты стольким обязан этой женщине, что и жизни твоей будет мало, чтобы отплатить».
– Я к вашим услугам, госпожа. Всегда.
Ее пальцы робко легли на плечо Караваджо. Он вспомнил, что за все эти годы она касалась его, лишь подставляя руку для поцелуя, – и содрогнулся. Словно сила многих поколений ее благородных предков – вельмож, полководцев, даже одного папы – перетекла из этой маленькой руки в его тело. Такая власть может послать человека на верную смерть. На краткий миг Караваджо оцепенел.
– Микеле, ты ведь пишешь портрет Его Святейшества? – уточнила она.
«Эти дворяне ждут своей минуты много лет. А как только увидят возможность, сразу за нее хватаются. Преданность – всего лишь красивое имя для шантажа».
Рука Костанцы не двигалась, но от ее прикосновения у него побежали мурашки – сначала по шее, затем вниз, по рукам и спине. Он жалел, что предложил ей помощь не сразу, нехотя. Она обратилась к нему за помощью, потому что знала, сколько значил для него Фабрицио. Но он не мог пересилить в душе обиду. «Если бы меня не отослали, всего этого могло и не случиться. Фабрицио стал бы другим человеком. Да и я тоже».
– И какое выражение вы хотели бы увидеть на портрете Его Святейшества, госпожа?
– Милосердия.
Караваджо вспомнил цепкий взгляд маленьких темных глаз на полотне, оставленном в Квиринальском дворце. Милосердие – на этом лице? Это потребует не меньшей изобретательности, чем роспись потолочной фрески с богом моря и всеми его нимфами.
– Я попробую, госпожа. Постараюсь.
Пруденца пришла среди ночи – вбежала по лестнице и разбудила Чекко, дернув его за нос.
– Ступай вниз, малыш, – прошептала она. – Мне сегодня нужно спрятаться.
Чекко завернулся в одеяло и, ворча, побрел вниз. Пруденца легла на кровать Караваджо и запустила руку под его ночной колпак, перебирая волосы.
В темноте он провел ладонью по ее лицу – осторожно, чтобы не потревожить порез, оставленный Филлидой в углу рта. Но она вздрогнула, когда он дотронулся до свежего синяка у нее под глазом.
– Филлида попала в меня камнем, – сказала девушка. – Я не могу вернуться домой. Ты ведь меня не прогонишь?
Даже перед лицом неумолимой ненависти Пруденца сохраняла беззаботность. Караваджо вдруг представил себе, как ее труп плывет по Тибру вместе с уличными отбросами. Он посмотрел на стоящий у противоположной стены мольберт, на незаконченную «Марфу и Марию Магдалину». Караваджо всегда полагал, что время не властно над его работами. Теперь же, дотронувшись до щеки Пруденцы, он понял, что кто угодно может подойти к его холсту и проткнуть его кинжалом. Когда краски высохнут, слуги отнесут «Марфу» во дворец госпожи Олимпии Альдобрандини, и она выставит ее в своей галерее на обозрение почтенной публики. Каждый обретет право критиковать ее, насмехаться над ней – он слышал о своих работах всякие отзывы. А кому-то, возможно, взбредет в голову просто ее уничтожить; почему нет?
Нет, его картина не обессмертила эту девушку. Холст не менее уязвим для насилия, чем плоть. Картины долговечнее и больше ценятся, но они так же хрупки, как кожа и кости. Он нащупал ее руку и больше не отпускал. Скоро Караваджо почувствовал, как пальцы Пруденцы расслабились во сне, и содрогнулся – от страха за нее.