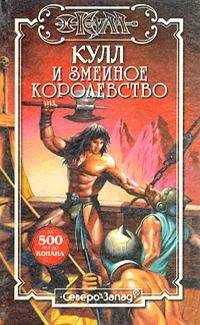Василий Авенариус - Необыкновенная история о воскресшем помпейце (сборник)
— Да что же ты сам-то ни слова не скажешь? — спросил наконец Баланцони. — Неужели эти картины, по-твоему, не хороши?
— Хороши… — как-то нерешительно отвечал помпеец.
— Ты не договариваешь?
— Да глаз мой, должно быть, к ним еще не пригляделся. Ко всему новому надо сперва привыкнуть. Ведь все они написаны кажется, просто на холсте?
— Понятно.
— Для меня это вовсе не так уже понятно. В мое время картины писались прямо на стене фресками…
— Что и естественнее, и прочнее! — подхватил Скарамуцциа, обрадовавшийся, что речь перешла снова на излюбленный им древности. — Не хочешь ли, мой друг, сейчас сравнить?
— Сейчас?
— Ну да, стоит только пройти в помпейский отдел.
— Здесь же, в музее?
— Да; ты найдешь там, — разумеется, кроме зданий. — всю свою Помпею, даже фрески.
— Как! вы вырезали их из стен? Да ведь это такое варварство…
— Что поделаешь, мой милый? Такие уж времена!
Любители древностей выцарапали бы, пожалуй, и фрески, как растащили не мало-таки — предметов искусства.
— На этих господ любителей не хватило бы и десяти Помпеи! — подхватил Баланцони. — Спасибо еще, что у нас в Неаполе так искусно подделывают теперь помпейские древности: даже знатоку не легко отличить подделку от оригинала.
— И подделки эти продаются совершенно открыто?
— В магазинах, да; но само собою разумеется, что покупателям они предлагаются за подлинные древности.
— Да это же обман, преступное мошенничество!
— Гм; mundus vult decipi, ergo decipiatur (свет хочет быть обманутым, да будет же он обманут). Покупатели при том — все больше из богатых иностранцев; и им приятность и нам нажива. Обоюдное удовольствие!
В таких разговорах Марк-Июний незаметно очутился в помпейском отделе музея.
Здесь скоплена вся движимость отрытой из-под пепла Помпеи.
Кроме бесчисленных статуй из мрамора и бронзы, свидетельствующих о высоком развитии изящного вкуса за тысячи лет тому назад, здесь есть немало предметов, наглядно иллюстрирующих тогдашние обычаи и домашний быт, как-то: разнообразные украшения женского туалета, воинское оружие, посуда и разная утварь; даже съестные припасы: окаменелые хлеба, зерна, яйца, грецкие орехи, чернослив. Кроме движимости, есть кое-что и недвижимое из области искусства: мозаичные полы и стенная живопись. Наконец, есть и представители тогдашнего человечества: окаменелые группы помпейцев, застигнутых врасплох землетрясением и живьем засушенных вулканическим пеплом.
К какому бы народу и сословию вы ни принадлежали, какие бы умственные или житейские интересы и занимали вас, но раз очутившись посреди этого давно погибшего и вдруг как бы вновь восставшего мира, вы на время забываете действительность и всецело переноситесь в ту древнюю эпоху. Что же должен был испытывать Марк-Июний среди этой родной ему обстановки?
Как в полусне, с растерянным видом, бродил он из залы в залу. Неугомонный Баланцони в начале взял на себя роль комментатора. Но Скарамуцциа очень решительно попросил его замолчать, и репортер, видя, что и без того цветы его красноречия пропадают даром, с презрительной усмешкой умолк.
Точно неодолимая сила гнала Марка-Июния все вперед да вперед. Как вдруг он вскрикнул и остановился. Внимание его приковала фреска, изображавшая Юнону в беседе с Юпитером.
— Ты видишь эту картину, верно, не в первый раз? — тихонько спросил его профессор.
Зала бронзовых статуй из Геркаланума и Помпеи в Неаполитанском национальном музее.
Помпейская фреска: «Беседа Юнона с Юпитером».
Помпеец, погруженный в созерцание картины, глубоко вздохнул.
— Сколько раз я стоял уже перед нею! — прошептал он. — Ведь это было лучшее украшение триклиниума (столовой) моей бедной Лютеции! Этот божественный взор Юноны по-прежнему проникает в самое сердце. Но Юпитер… — что с ним сталось!.. О, варвары, варвары!
Между тем толпа любопытных, неотступно двигавшаяся за помпейцем из зала в зал, все ближе и плотнее обступала его с двумя его спутниками. Два англичанина-туриста в клетчатых летних костюмах, с биноклями в футлярах через плечо и с неразлучными краснокожими путеводителями в руках, заслонили своими неповоротливыми, долговязыми фигурами даже фреску, чтобы удобнее заглянуть в лицо нашего живого мертвеца, и справлялись в своих книжках, будто проверяя его подлинность. Другие зрители, из итальянцев, преспокойно ощупывали его плащ, а потом не без сердечного содрогания хватали его самого и за руку.
— Да он, господа, совсем теплый!
— А и вправду ведь, живехонек!
Такая бесцеремонность возвратила Марка-Июния опять к действительности.
— Скоро, кажется, мне и руки оторвут! — сказал он.
— Да, милый мой, — отвечал репортер, — на то ведь ты и триумфатор! В театре тебе нынче, вперед говорю, будет не такая еще овация…
— Так я лучше вовсе не пойду туда…
— И не услышишь даже Лютеции-Тетрацини?
— Ты прав: услышать ее я должен непременно!
— То-то же. Да и билеты уже взяты. Вот, signore direttore, на всякий случай получите ваши два билета.
— А счет вы потом представите? — не без колкости спросил Скарамуцциа.
— Не премину, почтеннейший, будьте покойны.
Площадь Кавура в Неаполе.
Глава десятая. Травля
Было за четверть часа до начала представления, и огромный театральный зал был еще довольно пуст, когда Скарамуцциа ввел туда своего взрослого питомца. Ему хотелось еще до спектакля прочесть помпейцу на месте небольшую лекцию об акустике современных театров. Но, пробираясь между кресел к своему месту, он, к неудовольствию своему, увидел, что ошибся в расчёте, что лекцию придется отложить до другого раза: Баланцони был уж тут как тут и прелюбезно кивал навстречу Марку-Июнию.
— Отлично, любезнейший, сделал, что забрался спозаранку: я успею еще рассказать тебе содержание «Вильгельма Телля». Слушай.
— Полноте, signore dottore! — сердито перебил Скарамуцциа. — Россини в своей опере совершенно исказил драму Шиллера…
— Положим, что так; но действие-то в ней всё-таки — осталось.
— Хорошо действие, которого не понять, если вперед не рассказать содержания пьесы!
— Марк-Июний же не знает еще настолько нашего итальянского языка…
— Да если б и знал, то ничего не разобрал бы, потому что певцы глотают половину слов.
— Это еще не беда, — вмешался тут Марк-Июний, — в пении дело не в словах.