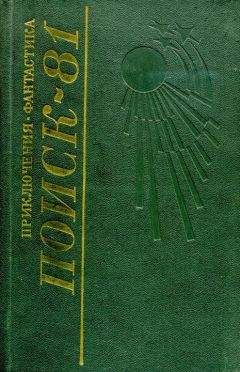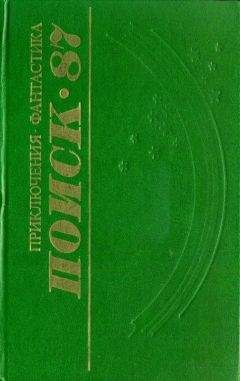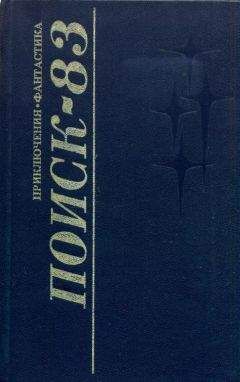Ефрем Акулов - Поиск-84: Приключения. Фантастика
Покойно и не тесно, как будто бы двум родным людям в одной берлоге, отгородившей стеной большую жизнь. Жизнь с беспокойствами и утратами, с радостями и ожиданиями.
Глава седьмая
От природы Сволин был мужичонкой хлопотливым и скаредным. За всю свою жизнь не помнил он случая, чтобы день-два просидел без дела, предвещавшего ему хоть малую наживу или чью-то похвалу, не помнил он случая, чтобы кто-то когда-то обсчитал его по забывчивости или халатности своей. Все свободное время умел он переделывать на деньги, умел и прикидываться неимущим, хотя за душой держал нескудеющий капитал.
Вот и теперь, когда отец и сын погрузились в долгую зимнюю «спячку», старик не сидел сложа руки: штопал одежонку, чинил обувь, из заготовленных лык плел пестери, бродни, лапти и ковры. То принимался вытесывать топорища, долбить корытца или гнуть коромысла. И все сожалел, что не договорился с Кустовым насчет сбыта своих поделок.
Степан же отлеживался, погрузившись в долгие беспросветные думы. Иногда он часами наблюдал за хлопотами отца, расспрашивал его о том, о сем. Сам же рассказывать не любил. Еще в первые дни своей «спячки» старик выстругал из осины дощечку, прикрепил ее к стене и велел сыну засечками вести счет прожитым в подземелье дням, чтобы не просидеть во мраке праздники Христовы. Это поручение отца Степан выполнял аккуратно, с интересом. Его молчание первое время не раздражало отца, и, казалось, он свыкся с ним. Но вот как-то за едой старик спросил:
— Не о Клашке ли тяготеешь в думах своих?
Степан ответил не сразу и не совсем определенно:
— По жизни тужу.
— Думать в нашем положеньице — грех великий на душу напущать, — заметил старик. — До самоубивства можно дойти али с ума спятить. Иное дело — голова пустая, а руки на брюхо робят. Тело человека, оно ведь для работы сотворено, а не для того, штобы каждодневно пролеживать его да о бабах сохнуть. Бабы на услажденье даны человеку. Это верно! А когда глубже в корень посмотришь — Кузяшкиным гнилым болотом от них разит. Чтоб их нелегкая убрала с моих глаз! Все беды от них.
Степан с ухмылочкой сказал:
— А сам не бобылем прожил!
— Прожил не бобылем, — согласился отец. — Планы на жись великие строил, вот и держался за бабу. В хозяйском деле как без бабы-то? Без бабы да без бога — не до порога.
— Я вот о чем думаю, батя, — открылся Степан. — Залежался, засиделся я тут. Осточертело, все. Легче смерть принять, чем гнить тут в подземельи…
Отец на полуслове прервал его:
— Вот как он разговорился! Его кормят, поят за так себе, укрывают, то бишь время для жизни выгораживают, а он расплелся, как старый лапоть. Тьфу! Срамотно слушать!
— Не жизнь придумали, — упрямился Степан, — пожизненную каторгу. Вот что! Глаза бы мои не глядели на все это!
Старик едко смотрел на сына, словно не узнавая его.
— Гликось, умник нашелся! Мудрец объявился! Рано взбеленился, сынок. К добру ли? Ну, мудри, мудри!..
— Не мудрю я, батя, а только совесть начинает покусывать болячку. Муторно на душе и все тут. За подлость свою муторно.
— Тогда на кой ляд драпанул с фронта? — повысил голос старик. — Шел бы под пули, кричал бы себе «уря!» Может, теперя и косточки бы твои плесенью подернулись. А то, глядишь, жив и здоров, и мясцо даровое потребляешь, и воздух пьешь… Разуй глаза-те маленько, оклемайся! Слышишь ты! Пойми: не век сидеть здесь будем. Придумаем что-нибудь.
Степан подошел и опустился рядом с отцом на топчан.
— Вот слушал я тебя, батя, и думал: шибко интересно в жизни получается. От мудреца родится глупец, а сын глупца вырастает мудрым человеком. Почему так нескладно все придумано? И еще подумал: утомительно жить среди людей, у которых на совести ни пылинки. И еще: чем горластее человек, тем поганее его совесть…
Слушая сына, Дементий Максимович размеренно покачивал головой, не решаясь что-либо возразить или переспросить. Однако для себя отметил: много неясного появилось в голове сына. Не опасно ли жить рядом с ним?
Помолчали.
После ужина отец заговорил:
— То скажу тебе, Степан: в природе всегда идет борьба. Испокон веку сильный пожирает слабого, хошь это зверь, хошь — человек. Владыка тот, кто сильнее да чей зуб острее. В нашем, людском житие тот пан, у кого мошна толще. Тот и властью правит, кто рабов в острастке содержит…
— Уж не в рабовладельцы ли метишь?
— Был бы, ежели не Советы…
Степан не вставил меж этих отцовских слов своих рогатин, и старик сменил тему разговора отвлеченными суждениями о жизни. Как и в давние времена, ему хотелось «перелицевать» сына на свой, нужный ему лад. Хотелось, чтобы Степан ни в чем не противился ему, и если не желает в ином разговоре разделить его суждения, то хотя бы не вклинивался со своими «рогатинами» да угрозами, упадком духа своего не навязывал бы уныние старому человеку. Он успокоительным тоном говорил:
— Подожди, Степа, доживем до весны — вся прелесть жизни будет наша. Местечко тут — чистый рай. Благодать! Птички защебечут, и травка всякая зацветет. Вечерами соловьи такие мазурки выдадут — закачаешься. Все — отрада душе, успокоение. А без баб перебьемся. Ну их к лешаку! Толкую тебе: займи руки, коли душа в уныние впала.
Степан страдальчески признался:
— Мне бы теперь хорошую книгу. Такую бы книгу, чтобы свет душе наступил от ее прочтения. А ведь есть такие книги! Есть! Вот ты уел меня за побег с фронта. Я ведь это, батя, не из подлости сделал, а от темноты душевной. Сердце зашлось от страха, а когда оклемался — поздно было поправить свою оказию. В том и вина моя. Думал: не уйти с того поля, а жить шибко хотелось. Ради дочек своих пожить хотелось. Зачем я им мертвый-то? Доведись мне узнать, что вина моя может быть прощена, гору сверну, жизни не пощажу, а человеком стану…
— Ха-ха-ха! — заклекотал старик. — Из головы выбрось такое! Что дезертир, что изменник — один чертополох в поле, одна полова при молотьбе. Вот о книге ты начал… Читал я псалтырь — славная книга! Там все про земное житие толкуется здраво. Вот бы тебе псалтырь-то… Псалтырь — псалтырем, а, сказывают, самая главная книга создана монахами, и ей полтыщи лет. Библией называется. Так в этой библии даже кончина века предсказана. Теперь все в жизни идет как раз по тем святым писаниям. Вот оно что! Такая книга должна быть у ворожеи Дарьи Доромидонтовны. Да! А ведь схожу я к ней, схожу…
— Бред несешь, батя, — сплюнул Степан. — Библия — свод ереси затворников из монастырей Ерусалима. До войны видел я библию у Сворыгиных.
— «Видел», — передразнил старик. — Не видеть, а заучивать надо, и лучше — на сон грядущий по страничке.